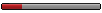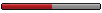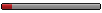|
Встань, зверь, на две ноги (рабочее название)
|
|
| Ленарт | Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:39 | Сообщение # 51 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Алёна, большое спасибо за подробный отзыв! 
Рада, что Легавые вызывают сочувствие - им действительно нелегко приходилось.Цитата AlenaKam (  ) Чувства Горностая понятны, мальчишка ХОТЕЛ стать вот таким, в маске, как всякий мальчик мечтает быть супергероем!
Интересная точка зрения! Да, конечно же, не без этого))Добавлено (27.02.2015, 22:39)
---------------------------------------------
Пастух
Когда спускаешься по горной тропе в долину, дух захватывает от великолепия открывающихся видов. Земля кажется колыбелью, тёплой и тихой, где спит нечто сокровенное, чему нет названия ни в одном из человеческих языков; где до бесконечности живое и подвижное невероятным образом соседствует с до бесконечности недвижным и постоянным. Реки трепещут, скованные цепями берегов и подступающих морозов, и дикость осеннего ветра разбивается о гранитовую неприступность скал… И кто дерзнёт разгадать, в чём смысл живописного рисунка долины — этих изгибов, этих склонов, этих возвышенностей и падений? Я бы не дерзнул.
Пока мы спускались, заметил реку и почти сразу же, обхваченное с одного боку её излучиной, — поселение, совсем небольшое. Сверху хорошо было видно прямоугольный контур центральной постройки, над которой возвышалась островерхая башенка, и толпящиеся вокруг дома самой разной и оригинальной формы. Освобождённый от деревьев участок был невелик, и многие из них, как мне показалось, стояли уже прямо посреди леса.
Зато как, должно быть, вольно дышится тамошним обитателям… Отвезти их в наш столичный Станхалл — так ведь не поймут, как мы в таких гадких условиях живём.
К вечеру, когда уже спустились в долину, погода резко испортилась. Небо подёрнулось пеленой, налитой близким дождём. Лорд Одар, этот гордый упрямец, уверенный, что в состоянии любую ситуацию держать под контролем, неустанно шагал вперёд, навстречу второй станции. Казалось, он верил, что Высший Разум властен не только над людьми, но и над стихиями.
Но ливень всё-таки грянул. И вряд ли собирался тут же заканчиваться. Крутые склоны не спасали от сильного ветра. Напротив, долина была узкой и вытянутой, наподобие ущелья, и рассвирепевший ветер, идущий на приступ и обнаруживший лазейку, с радостью ринулся внутрь, а нам приходилось идти по настоящему горному сквозняку.
В таких условиях ночевать под открытым небом — малоприятное времяпрепровождение, при всём моём восхищённом отношении к местной природе. Что до профессора…
Меня удивило, что с первым ощутимым порывом ветра, он наконец-то отвлёкся от созерцания дороги у себя под ногами и поднял голову к небу. Дождь падал ему на лицо, профессор несколько раз моргнул — и в кратких перерывах между этими попытками прочистить глаза я увидел в его взгляде что-то живое.
Но мгновение минуло. Лорд Одар тряхнул головой и сказал:
— Нужно найти, где переждать ливень.
— Здесь недалеко, кажется, деревня, — я поискал глазами башню, которая должна была возвышаться над деревьями. — Выглядит тихой. И мы как раз на том же берегу реки.
Башня и впрямь была ещё видна, и профессор её заметил.
— Это не деревня, молодой господин, — внезапно подала голос Лайнхва, неуверенно подходя к нам. — Это… не совсем деревня.
Я вспомнил, что мы сперва добрались до первой станции, а затем повернули обратно, поскольку дальше дороги не было — дальше лежал среди отвесных скал Бесовской Котёл, ныне пустующий. Вышло так, что теперь мы находились недалеко от того самого приграничного поселения и постоялого двора Труфи. Значит, Лайнхва хорошо знала эти места…
— Но мы ведь сможем укрыться там от дождя? — спросил профессор, глядя на башню.
— Сможем, господин.
— Прекрасно. Тогда идём туда.
Это действительно была уже не деревня, и ни одна живая душа нам не встретилась. Часовня — та самая, с башенкой — оставалась цела: сложенная из посеревших досок, строгая и скорбная, она стояла среди полуразрушенных каменных домишек. А то, что я издалека принял было за причудливые очертания, оказалось всего лишь обломками, что сгрудились вокруг сохранившихся остовов. Меж ними росла жёсткая трава, в проломах крыш и стен кое-где виднелись юные деревца.
Встречались и деревянные дома: некоторые наполовину почернели от давнишнего пожара, а от некоторых почти ничего не осталось.
Удивительно, каким образом часовня избежала каких-либо, даже малейших, повреждений… Только дух от неё исходил какой-то обречённый, как от хижины старого Ируди, и пустые чёрные окна глядели на царящее вокруг мёртвое запустение, как, наверное, смотрел бы одинокий священник на сметённую внезапной бедой паству.
Возле крыльца, почти у самых ступеней, кто-то, как мог, выложил камнем овальную площадку, на которой стояли три памятника. Три обтёсанных глыбы примерно одинаковой зубчатой формы, но разных размеров — их определённо возвели человеческими руками. Я прошёл туда, провёл рукой по мокрой от дождя поверхности ближайшего камня… Серая птица с красной грудкой, что, нахохлившись, сидела на его макушке, встряхнула перьями и улетела.
— Что тут произошло?
Я не ждал ответа и вздрогнул, когда Лайнхва негромко сказала:
— Это селение тринадцать лет назад разорили дикари. Так рассказывал один из выживших, хотя ему мало кто поверил.
— Почему?
— Часовню не тронули. Значит, верующие. И ведь дикари живут далеко на юге. Как бы они сюда добрались, да ещё через границу?
И правда — как? Если мы в Сийендах, а Дикий Народ селится там, далеко за рекой Сегдой.
— Я думал, в Золотой Колпте уже не верят в Корни, — сухо заметил лорд Одар.
Обернувшись, я увидел, что он скрестил руки на груди и недобрым взглядом смотрит на купол часовни. Лайнхва держалась от него на расстоянии, вжимала голову в плечи, но голос её звучал спокойно и твёрдо:
— Эту часовню построил священник с соседнего маленького острова — с Оринея, где Высшего Разума ещё нет. Вот и наставлял нас. Ему и памятник поставили…
Лорд Одар недовольно хмыкнул, прошёл мимо неё и остановился рядом со мной.
— Нужно найти, где укрыться. Поспешим.
Полагаю, мы мокли бы намного меньше, если бы выбрали для ночлега любой более-менее целый дом — всё-таки ни один из них не превратился совсем в развалины. Но профессор, этот конгломерат принципов Высшего Разума, со свойственной ему дотошностью бродил по всему селению и искал дом наименее пострадавший. И не успокоился, пока не нашёл, подкрепляя себя и меня словами: «Нам здесь придётся провести всю ночь».
Пол был почти без повреждений. Расстелили на нём одеяла, которыми нас снабдили операторы первой станции, развели огонь в обнаружившейся глиняной печи, благо нашлись и спички. После чего лорд Одар поставил промокшие насквозь ботинки сушиться у огня и лёг отдыхать, не сдержав усталого вздоха — всё-таки давал о себе знать злосчастный недуг. А может, дело было просто в возрасте.
Кто знает, как я буду себя чувствовать, если заставят в пятьдесят лет бегать по горам с утра до ночи?
Я погрел руки у печи и отправился за Лайнхвой, оставшейся у крыльца часовни. Не знаю, отчего она не захотела идти с нами — должно быть, её смутил неодобрительный тон профессора — и не знаю, отчего не спряталась от дождя хотя бы на крыльце, под навесом. Просто осталась меж трёх мрачных глыб, как будто ничего вокруг больше не замечала.
Уже почти совсем стемнело, и луч фонаря, взятого опять же у операторов, придавал унылой картине немного мистический вид. Когда я подошёл, Лайнхва всё ещё была на площадке с памятниками — сидела, поджав под себя ноги, прямо на неровно сложенных плитках, перед аккуратной кучкой каких-то сучьев и тёрла друг о друга два деревянных прутика. Безнадёжно, но упрямо.
— Они слишком сырые, — сказал я. — Брось, пойдём в дом. Там намного теплее.
Лайнхва уронила руки себе на колени, но вставать не спешила — подняла глаза на памятник, возле которого сидела. Фонарь осветил надпись: «Эти дети пропали без вести. Помолитесь за них Корням». Дальше перечислялись имена — около двадцати.
— В тот день здесь проводилось служение, и было много прихожан из окрестных деревень, — сказала вдруг Лайнхва, будто и не мне, а куда-то в пространство. — Много людей тогда погибло. Священника Бранна тоже убили. И забрали мою сестру…
— У тебя была сестра?
Лайнхва спохватилась и сжалась в комок, но я, сам не знаю почему, ждал продолжения, и она указала на коротенькое имя в нижней части мемориала. «Килтэ».
— Она была намного старше, ей тогда как раз минуло двенадцать лет. Родители не смогли пойти на службу, вот и я не пошла, но Килтэ была уже самостоятельной. Она дружила с мальчиком из этого селения и часто одна уходила в горы. И вот однажды просто не вернулась… Несколько окрестных деревень собрались, чтобы похоронить погибших и поставить им надгробие. Священника Бранна похоронили отдельно. Но ни одного детского тела не нашли, хотя в тот вечер пропало много детей…
Тут она встрепенулась, словно вспомнив о чём-то важном, и вернулась к добыванию огня — но только напрасно царапала и пачкала руки.
— Пойдём лучше в дом, там согреешься.
— Мне не холодно, молодой господин, я крепче, чем вы думаете. Но Килтэ часто простужалась и болела, а я не знаю, где она сейчас, и не могу её согреть, — голос Лайнхвы дрогнул. — Но ведь нужно сделать хоть что-то.
Говоря так, она вся дрожала; с волос текла вода, в свете фонаря лицо казалось белым, а губы синими.
Почему она постоянно вся вымокшая и продрогшая?
Вспомнилось, как мать Лайнхвы рассказывала об изменениях климата: мол, очень уж стало в последние годы влажно и дождливо в Золотой Колпте. Не думал, что настолько…
Я снял ветровку, сшитую из водоотталкивающего материала и, по крайней мере в данный момент, куда более тёплую, чем старая прохудившаяся куртка Лайнхвы, которую и курткой-то сложно назвать.
— Надень, и идём отсюда. У лорда Одара есть спички. Вернёмся и разожжём костёр для твоей сестры, а трением ничего сейчас не добьёшься.
Лайнхва вскочила.
— Нет, нет, что вы такое делаете… — пролепетала она, и тут мы оба замерли.
Был слышен стук копыт. Кто-то приближался.
Друг или враг?
Собака
Я помню имя мальчика-скорпиона — Сиге. И больше не помню ни одну свою жертву, хоть и чую каждую. Потому что тот мальчик был первым, кто по-хорошему не представлял для Легавых интереса. Невинным и чистым.
В тот день я впервые не понял Авагди. Просто горячая волна чьей-то животной ярости накатила откуда-то сзади, толкнула в спину, и невидимый ошейник затянулся туже, словно стремясь скрутить в жгут гортань, а кожу на шее обожгло, как крапивой.
«Жертва! — прохрипел в сознании голос Отмершего. — Ату его, собака!»
Я не понял, но он дал команду, а что ещё делать охотничьему псу, если не исполнять команды охотника? Не помню даже, что почувствовал тогда. Кроме равнодушия.
Попробуйте объяснить мне, почему Легавому должно быть не всё равно. Попробуйте…
С того дня я никогда больше не задумывался о добре и зле. Не собирался делать это и теперь.
Всё случилось точно так же. Или почти…
Невысокий сухощавый светловолосый парень лет двадцати. Обыкновенный. И лицо в веснушках, освещённое неким приспособлением, явно глеурдинским. Лицо казалось смутно знакомым… Впрочем, неудивительно: чего и кого только не видят ученики Отмерших во время ежедневных медитаций.
Он был совершенно чист, и, если б не Авагди, я бы проехал мимо, не поведя даже бровью.
За спиной будто вулкан кипел. Огромный вулкан с жерлом, полным ядовитой и пенящейся ненависти, и весь он готов был извергнуться на голову человека, что стоял передо мной.
«Жертва», — повторил Авагди.
«Молчи, Охотник! Я слышал».
Горностай в радостном возбуждении говорил им что-то. Им — это жертве и девушке, что стояла рядом. Но эти двое были слишком напряжены и, казалось, не слышали приветствий наивного мальчишки. Как и я.
Не внушала им доверия собачья морда — и то верно.
— Призрак! — прошептала колптинка, и в шёпоте прозвучал ужас.
Я спрыгнул с лошади и подошёл. Человек, похожий на глеурдина, но вполне способный оказаться и колптинцем, стоял, не шевелясь, и смотрел в глаза. Не спокойно, но и не испуганно. Без страха, без ярости и злости, без обвинения, без… Я не чувствовал его, не видел и не мог прочитать, что там, за живой стеной человеческих глаз. Но, в конце концов, моё ли это дело? Дело Легавого — проклятие.
Рука поднялась как будто сама по себе, совсем легко, а между тем… давно я этого не делал! И не могу сказать, что соскучился.
Слово уже готово было сорваться с языка, но девушка вдруг кинулась между нами, и одни глаза — тихие и глубокие серо-зелёные — сменились другими. Ледяная корка суеверного страха над бледной небесной голубизной…
— Поди прочь, проклятый! — дрогнувшим голосом выдавила девчонка.
Боялась. Дрожала, как былинка на степном ветру, но всё равно стояла перед проклинающим призраком и закрывала собой другого человека. Хлипкая, жалкая защита… Псу ничего не стоит наступить на былинку лапой и, мгновенно о ней позабыв, прыгнуть, вцепиться жертве в горло. Но, может быть, пёс и остановится, наклонив в сторону лохматую голову. Просто из интереса и недоумения не станет прыгать сразу.
Рука опустилась.
Что ты делаешь, девочка? Что это? Геройство? Подвиг? Брось! Разве найдётся место геройству в твоей крохотной, обмельчавшей колптинской душонке? Разве по зубам тебе истинный подвиг?
Брось, глупая букашка, дочь серого народа, в котором не то что героев — людей настоящих и то не сыскать. Ты чиста, ты чище меня, и нет в тебе червоточины, но и светлой силы тоже нет. Выросший под сетью Высшего Разума низок, мелок и не способен на Чувство, и одних только девичьих грёз о нём, увы, недостаточно.
Брось, девочка, не стоит играть в Человека, ибо тебе до него, как дорожной пыли до неба. Вот сейчас я скажу тебе кое-что — и ты сникнешь, струсишь, отступишь и вернёшься в свою серость, и мне даже не придётся наступать на тебя, чтобы добраться до жертвы — ты сбежишь сама. А жертва останется. Уж поверь: я очень хорошо знаю, каковы колптинцы.
И если будет иначе, перестану называть щенком этого глупого раба, который подскочил сзади и по-детски бестолково теребит мой рукав…
Изумлённый парень попытался отстранить девчонку, но пальцы мои вцепились в его плечи, и она оказалась заперта между нами.
— Поди прочь, — повторила еле слышно. — Не тронь его.
А ведь твоё лицо я тоже где-то видел… Кажется. И как будто даже наяву.
— Если не хочешь отдавать этого человека, может быть, согласишься сама стать моей жертвой?
Ледяная корка страха уплотнилась и стала уже не коркой, а целой стеной.
Что, испугалась теперь по-настоящему?
— Соглашусь, — стена никуда не делась, но голос был твёрд.
Трудно удивить Легавого, на чьём счету несколько десятков загубленных душ, но, услышав её ответ, я на мгновение потерялся. Она… согласилась?!
Мгновения хватило «глеурдину», чтобы сбросить мои руки.
— Хватит! Лайнхва, пойдём, — сказал он, всё ещё делая вид, что ни капли не боится.
Может быть, так оно и было на самом деле, но пока он произносил последнее слово, у горла девчонки по имени Лайнхва уже оказалось остриё меча.
— Дёрнешься, и она умрёт.
Хороший меч — спасибо Ройгу и тайнику старины Урта.
— Я согласна, — громче повторила девушка.
Так значит, маленькая букашка всё ещё хочет стать человеком. Всё ещё верит… Что ж, значит, это храбрая, даже безрассудная букашка. Пусть так. Но долог и сложен путь от земли до неба, а жизненный срок букашки так краток…
— А тебе известно, девочка, что мне стоит просто сказать: «Ты не доживёшь до утра», — и ты не доживёшь до утра?
— Известно. Ты — призрак.
Молодец-то какая. Что ж, ладно: пусть будет по-твоему, молодец. Умри, мечтая о небе.
И снова рука моя в привычном жесте поднялась до уровня лица, и слова староколптинского языка тяжело упали в холодный воздух:
— Ты не переживёшь эту ночь, и после твоей смерти никто в этом мире о тебе не вспомнит.
Горностай повис на правой руке, в которой был меч.
— Не надо, пожалуйста!
Несмышлёныш! Уже поздно, слишком поздно, а ты не видишь, не веришь, не хочешь признать. Плохой бы из тебя вышел Легавый, вроде Ройга. Дэбб со своей считалочкой об этом знал…
Я схватил упирающегося Горностая на руки и понёс к лошади, уже не глядя на людей и почти забыв о них. Девчонке всё равно не жить, а до «глеурдина» псу из своры Авагди вообще не должно быть дела.
Самого Авагди я впустил в сознание только тогда, когда конь уже двинулся с места. Охотник чуть ли не шипел от злости, и почему-то представились его глаза, постепенно превращающиеся в круглые змеиные очи, и так невыносимо захотелось плюнуть прямо в эти глаза!
«Мне нужна была не она, с-собака! Слышишь? Мне нужен был он! Возвращайся немедленно и…»
«Два проклятия в один день, Охотник? Ну уж нет, я не собираюсь из-за твоей внезапной прихоти всю ночь дохнуть от вони. Подавишься».
— Зачем ты это сделал, Мабог? — плачущим голосом спросил Горностай (а ведь теперь, и правда, придётся называть его именно так, а не щенком, как раньше). — Она же не заслужила! Она хорошая, а ты… Зачем? И почему мы снова уезжаем? Ведь…
— Я собирался оставить тебя в деревне, а не на кладбище.
Он снова вцепился в мою руку. Жалкий, раздражающий жест. Когда-нибудь не выдержу и…
— Ты ведь можешь ещё её спасти, да? Можешь всё отменить?
— Нет. Замолчи.
— Но ведь есть же ещё право благословлять!
— Не сработает.
— Но всё равно…
Я схватил мальчишку за волосы и дёрнул так, что голова его запрокинулась. Маленький сопляк… В его глазах стояли слёзы. И губы дрожали.
— Я сказал: замолчи.
Пастух
— Что он с тобой сделал? И что ты… зачем…
Слов не хватало. Лайнхва прятала глаза.
— Он бы разрушил вашу жизнь. Он чудовище. Если уронит на кого Тяжёлое слово, тот человек будет страдать до конца своих дней и умрёт в страдании.
— Но ты-то почему должна…
— Кто вы и кто я? Я рядом с вами насекомое, однодневка. Сеть… она нас всех делает жалкими.
— Что теперь с тобой будет?
— Наверное, не доживу до утра. Как он и сказал.
В «Истории Золотой Колпты» было несколько строк о народном суеверии — мол, есть такие призраки в обличье всадников с собачьими головами, встреча с которыми сулит многие беды и лишения простому смертному колптинцу. До сего дня я считал это мифом, но теперь почему-то был убеждён, что Тяжёлое слово действительно имеет свой особый, страшный вес. И чувство вины перед Лайнхвой жгло грудь. Что не смог уберечь, а должен был, потому что…
Мужчина ты, Норд, в конце концов — или нет?
Я набросил ей на плечи ветровку, которая, оказывается, всё это время была перекинута через локоть, и теперь уже не обратил внимания на невнятные протесты.
— Пошли.
Если бы только знать, какой именно окажется призванная заклятием смерть! А так… что делать? От чего защищать это несчастное, вечно себя казнящее существо? Да и защитник из меня тот ещё…
Уже закончился дождь, а сон не шёл. Я лежал в темноте и помимо воли прислушивался к каждому шороху. Всё время чудилось, что сейчас из-за разлома в стене выскочат полудикари, похожие одновременно на убийц Труфи и его жены, пляшущих танец смерти возле пылающего дома, и на сектантов, мысли о которых остались далеко в Глеурде.
В конце концов сдался и встал. Профессор мирно спал у противоположной стены, Лайнхва сидела снаружи, у порога, с прутиком в руке и царапала что-то на размякшей земле. Рядом торчала вынутая из печи горящая головешка.
— Ты пишешь?
Она вздрогнула и поспешно прикрыла начертанное обеими руками.
— Не читайте пока. Пожалуйста.
Не читать, так не читать. Я пожал плечами, отошёл в сторону и прислонился к стене дома. Не знаю, чего ждал. Вероятно, того, что эта глупышка перестанет безропотно мириться с незавидной участью и захочет сделать хоть что-нибудь.
— Я не очень грамотна, — призналась девушка, не отрываясь от своего занятия. — И пишу совсем плохо. Но отец разрешал учиться и даже читать книги в свободное время.
Чуть погодя она встала и поправила складки платья, совсем как благородная леди.
— Пойду к сестре. Хочу встретить смерть рядом с ней.
Я сделал шаг, намереваясь её остановить.
— Лайнхва, нельзя же…
— Не ходите за мной, молодой господин. Это моя единственная просьба.
Она осторожно обошла нацарапанную запись, словно боялась стереть последний зыбкий след, который останется от неё в этом мире. И ушла в темноту. Факел оставила — он так и стоял в земле, и когда я подошёл его выдернуть, без труда смог прочитать несколько строк.
Почерк на самом деле был очень корявый. И слова казались какими-то путанными — но оттого не теряли свой обречённости.
«Моя душа — птица в темнице Высшего Разума. Стены темницы увиты терновником. Птица бьётся о стены, чтобы вырваться на волю, и в кровь раздирает грудь о терновые шипы. Выхода нет. Есть только свет в крохотном окошке. Жалкая птица слепнет от его красоты, но отказаться от него не может. Вы — мой свет. И сегодня я сгорю. Простите мне мои грязные серые перья».
Я опустился на колени, уронил голову на грудь, провёл по лицу заскорузлыми от горного ветра ладонями. Было почему-то больно — словно пузырь с вакуумом надавил на сердце сверху, расплющил, вжал в диафрагму, и оно пропускало удары. Было больно — и страшно.
Бедная глупая девочка, называющая себя жалкой… Сильный, защищающий слабого, храбр и благороден, но по-настоящему самоотвержен лишь слабый, защищающий сильного. Только вот какой ещё свет ты во мне разглядела, дурочка? А если и разглядела — почему не отвернулась?
Брать с собой факел было неразумно. Недоброжелателей может привлечь огонь, а вот луч фонаря для обитателей здешних гор — нечто невиданное и неизвестное. Будем надеяться, отпугнёт.
Я зашёл в дом и, не заботясь о приличиях, нашёл в дорожной сумке профессора заряженный пистолет с глушителем. Несколько патронов, правда, лорд Одар уже израсходовал (из него вышел неплохой охотник), но об этом я не думал. Просто взял пистолет, надеясь, что в ближайшие несколько часов профессору ничего не угрожает, и побрёл в неприветливую ночь следом за Лайнхвой.
Отныне я был за неё в ответе.
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:43 | Сообщение # 52 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| ПРИВЕТ!
ИНТЕРЕСНО, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЯВИЛО СЕБЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ КРАСНОГО ГОДА?
СТРАШНО, КОНЕЧНО.
МАБОГ ПРОСТО БРОСИТ ГОРНОСТАЯ? ДУМАЮ, НЕ СМОЖЕТ.
А ВООБЩЕ, ОЧЕНЬ ЖДУ ПРОДОЛЖЕНИЯ!
О! А ВОТ И ОНО! ЧИТАЮ! СПАСИБО!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:05 | Сообщение # 53 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Привет, Юль!Цитата Арахна (  ) ИНТЕРЕСНО, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ЯВИЛО СЕБЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ КРАСНОГО ГОДА?
Да, теперь его ничего не сдерживает. Хотя можно сказать и наоборот - Красный год начался в результате каких-то изменений в бессознательном.
Тут всё взаимосвязано.
Мабог пока что намерен бросить. Горностай ему не нужен, лишняя возня с ним, да и при Мабога оставаться небезопасно.
Спасибо тебе за отзыв и за интерес!)))
Насчёт продолжения - у меня написаны помимо уже выложенного ещё две главы - до конца второй части.
Правда, не знаю, когда буду их чистить - хотела сначала написать черновик, а потом уже править. Так что эти главы сырые. Не знаю - выкладывать? Или не торопиться?Добавлено (27.02.2015, 23:05)
---------------------------------------------
Цитата Арахна (  ) О! А ВОТ И ОНО! ЧИТАЮ! СПАСИБО!
Тебе спасибо 
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:10 | Сообщение # 54 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| ЭТОТ ПОДВИГ ДЕВОЧКИ ПРОИЗВОДИТ ОГРОМНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!
И ЕЕ СЛОВА - ПРОСТИ МНЕ МОИ ГРЯЗНЫЕ СЕРЫЕ ПЕРЬЯ - ПРЯМО ЖЕМЧУЖИНА!
ВООБЩЕ, ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ! МУДРЫЙ И КРАСИВЫЙ!
ЛЕНОЧКА, ТЫ МОЛОДЕЦ!!!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:19 | Сообщение # 55 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Спасибо, Юля! 
Рада, что слова понравились, а то я их чувствую - а получилось ли чувство передать, не знаю.
С текстом временами легко, но чаще всего - пишу очень-очень медленно.
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:31 | Сообщение # 56 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| ЭТИ СЛОВА ХОЧЕТСЯ ЗАПОМНИТЬ, ЦИТИРОВАТЬ, СИЛЬНЫЕ СЛОВА!
Цитата С текстом временами легко, но чаще всего - пишу очень-очень медленно.
ДАЖЕ СТРАШНО НАЧИНАТЬ
ВДОХНОВЕНИЯ ТЕБЕ, СОЛНЫШКО!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Пятница, 27.02.2015, 23:33 | Сообщение # 57 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Спасибо - и тебе!
|
| |
| |
| Maniaka | Дата: Суббота, 28.02.2015, 10:37 | Сообщение # 58 |
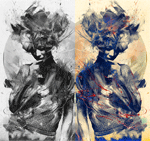 Лазуритовое перо
Группа: Авторы
Сообщений: 771
| Леночка, привет. Спасибо за продолжение.
Страшно за Лайнхву, и радует, что Норд чувствует за нее ответственность. Зря, конечно, Мабог так, но он не умеет по другому. Никто его не научил иначе. Но я верю, что вскоре многое измениться))))
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Четверг, 05.03.2015, 23:34 | Сообщение # 59 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Привет, Маша!  Спасибо, что со мной))) Спасибо, что со мной)))
Мабог пока нейтрален. Что будет дальше - увидим.Добавлено (05.03.2015, 23:34)
---------------------------------------------
Глава 9,
в которой Охотник торопит события, а надгробный камень священника с Оринея целую жизнь вытаскивает из тьмы на свет.
Снова пела, рассекая пелену дождя, трудяга-плеть в руках «чёрта», снова ноги вязли в грязи, а глаза застилал пот, снова гнулись спины рабов. И всё же этот день должен был стать знаменательным…
Авагди надеялся на успех. Сегодня с ним пойдут только самые отчаянные, непокорные и обозлённые, кого удалось подговорить бежать и которые тоже пока хранят надежду. Они ещё не знают, что для них-то как раз всё потеряно, и быть им жертвой, которую он, Авагди, принесёт на алтарь своей свободы. Потому что лишь Отмерший сможет выбраться из колонии живым. Остальным — кандалы или смерть.
Однако ему не повезло: сдуру вздумал проверить, как там поживает Легавый и с ним ли щенок-раб… и лишился чувств, прямо за работой, на глазах надсмотрщиков. Конечно, это было неразумно и рискованно — залезать в чужое сознание, когда вокруг люди, но кто же знал, что всё сложится так, как сложилось? И что на пути собаки встанет этот проклятый юноша.
Перед глазами всё поплыло, тяжесть призраков стала невыносимой. Навалились разом, затопили своей ненавистью к внезапно появившемуся новому лицу — ненавистью, вспыхнувшей так яро, что кружилась голова и не держали ноги. Авагди упал в грязный снег, кусая его зубами то ли от мучения, то ли от бешенства, то ли от того и другого сразу. Но какой бы лютой ни была ярость бессменных спутников, в эту минуту она не шла ни в какое сравнение с его собственной. И впервые за долгое время желание Авагди полностью совпало с желанием призраков.
Только вот Легавый… Как посмел он ослушаться?
«Подавишься», — пролаяла собака, и ненавистный юноша ушёл от Тяжёлого слова.
— Уничтожу его, — прохрипел Авагди, поднимаясь с земли. — Всё равно уничтожу…
— Работать, раб! — крикнул надсмотрщик, от души наградив плетью, но он отмахнулся от него, как от назойливой мошки.
Прошлое смешалось с настоящим. Нет, оно никогда не блекло в памяти, не стиралось, не теряло красок — оно оставалось слишком живым, слишком болезненным, для того чтобы теперь можно было отделить одно от другого. Канувшие в тысячелетнюю пропасть мгновения надвинулись стеной. Он был там и тогда, а не здесь и сейчас.
И физическая боль от нового удара кнута не имела значения рядом с убивающей, раздирающей на куски мыслью: эта тварь жива, эта тварь спаслась от проклятия, эта тварь на свободе, а я…
Абсолютная ненависть не терпит промедления. Забыв о том, что было условлено, Авагди взревел, извернулся, ударил «чёрта» лопатой в висок. Ослабевшие пальцы выпустили плеть, и когда Охотник подхватил её, хищным, нечеловеческим огнём горели его глаза. Второй надсмотрщик кинулся к нему — и захрипел, когда плеть захлестнула ему горло.
Для Авагди всё вокруг смешалось в один скользкий ком грязи. Стряхнуть его, выбраться из затянувшей трясины — и бежать, бежать туда, где враг, чтобы выцарапать ему эти спокойные тихие глаза…
Что лучше ярости придаст силы увязшему в болоте?
— Эй, Авагди! — кричал кто-то сзади. — Ещё рано, мы ведь не так договаривались!
Ах, это один из сообщников… Какой вздор! Мне не нужны сообщники; всё, чего хочу, — убить, разорвать, стереть в порошок. И как можно скорее.
Блеснула во всеобщей серости сталь: это наёмники вооружились мечами. Испуганные рабы — рабы по духу, а не только телом — шарахались прочь, оступались, падали, а Авагди нёсся вперёд, к воротам, прямо по их головам. Какой-то здоровяк с палашом в руке преградил дорогу, замахнулся с гадкой усмешкой…
Холодное до омерзения лезвие прошло насквозь, от левого плеча до правого бедра. Авагди передёрнуло, но он справился с приступом боли и тошноты и удержался на ногах.
— Что за чёрт? — ошалел здоровяк.
Ага! Не знал, бедняга, что перед тобой бессмертный? Брось ножичек — от него не будет толку.
Он был уже почти у ворот, когда настигла его крепкая верёвочная змея. Обхватила, стиснула плечи и грудь, не давая дышать; вслед за ней метнулась ещё одна, третья молниеносным броском обездвижила ноги. Авагди упал и подобно разъярённому зверю забился в тисках. Он готов был рвать этих змей зубами — за то, что не пускают, не дают вырвать сердце из ненавистной груди, но увы… Канат не заточенная сталь, его укус жизни не угрожает, и потому с канатом Отмершему просто так не справиться.
— Попался-таки, проклятый! — победно крикнул надсмотрщик с хвостом змеи в руках. — Мы у себя в диких землях и не таких жеребцов укрощали!
Двое других, тоже со змеями, дружно захохотали, и хохот их слился с мерзкими смешками призраков, придавленных Авагди к слякотной земле.
— Ты действовал как мальчишка, братец, как сопливый трус, — шипели они прямо из лужи. — Кто же так делает? Видно, нам придётся всё брать в свои руки…
Пастух
На этот раз Лайнхва стояла, прижавшись к мемориалу лбом, и вполголоса читала что-то вроде молитвы. Когда луч фонаря упал на каменную плиту, она вздрогнула и резко обернулась, но увидела меня — и страх сменился отчаянием.
— Что же вы со мной делаете? — прозвучало чуть ли не криком. Лайнхва спрятала лицо в ладонях и мучительно замотала головой.
Я замер в замешательстве — совсем не ожидал такой реакции — но быстро справился с собой и шагнул вперёд с твёрдым намерением отнять её руки и сказать… А что я собирался сказать?.. Лайнхва напряглась, глядя сквозь пальцы, попятилась, а потом вдруг вскинула блестящие, но не от слёз, глаза и стала с неожиданной горячностью меня отталкивать.
— Уходите, уходите, здесь же опасно!
— Не говори ерунды, — я схватил её за плечи, стараясь совместить строгость и мягкость в правильных пропорциях. — Даже если ты и смирилась, отвергать чужую помощь по меньшей мере глупо!
Не самые удачные подобрались слова — в духе наставлений Высшего Разума. Но на Лайнхву, как ни странно, подействовало: она опустила голову, перестав сопротивляться. Стала прежней — тихой и кроткой. Хотя, если задуматься: что я по сути знал о ней прежней?
— Простите меня…
— Вот, держи, — протянул ей фонарь. — Тебе он нужнее.
— Почему, молодой господин?
Я посветил Лайнхве в лицо, она зажмурилась и стала закрываться руками, нелепо и трогательно, совсем как ребёнок, которому впервые в жизни показали зажжённую лампочку.
— Видишь? — я не сдержал улыбки.
«Птица слепнет от его красоты, но отказаться от него не может», — вспомнилось вдруг.
Улыбка сама по себе исчезла.
— В общем… вот. Если что, направляй луч врагу прямо в глаза.
Пожалуй, это была первая ночь, когда меня страшил неизбежный приход рассвета. Впрочем, может быть, для кого-то из нас он как раз не является неизбежным и одна ночь плавно перетечёт в другую, уже вечную? Или даже для обоих…
Я поймал себя на том, что впервые думаю о смерти как о чём-то реальном и настолько близком, что уже почти осязаемом. И да, при мысли о ней было страшно — но не так, как представлял себе раньше. Не тряслись руки, не проступал на лбу холодный пот, и даже почти не изменился сердечный ритм. Словно голова знала, что надо бояться, но то, что я в надежде осмеливался называть душой, оставалось, как прежде, пустым.
Вот только мне не было всё равно.
Не знаю, сколько часов прошло, только нужные слова, которые я где-то в глубине души действительно хотел сказать — да и должен был! — вдруг нашлись сами собой.
— Лайнхва, — начал я, неотрывно глядя в темноту перед собой.
— Да, молодой господин?
— Спасибо тебе. За твою душу. Я… никогда ещё не видел живую душу так близко.
В этот момент справа затрещали ломающиеся ветви, и сквозь негостеприимные заросли облетевшего кустарника, разросшегося под боком у часовни, на открытый участок выбрались трое мужчин. Один из них тащил внушительных размеров мешок и держал над головой факел, двое других были вооружены саблями (хотя мои познания в области холодного оружия невелики). Скорее машинально, чем осознанно, почти не дыша, я одной рукой на мгновение стиснул руку Лайнхвы, а другой осторожно взвёл курок — и тогда нас заметили.
— Смотрите-ка, братцы! Что за милая парочка!
Руки по-прежнему не тряслись, даже когда поднимал пистолет и направлял в сторону того, кто это крикнул, а был это приземистый чернобородый крепыш лет тридцати пяти. Но рассудок, казалось, горел огнём от ужаса: разве смогу?
Эх, тренеры из ЦВЛ, знали бы вы, как никчёмны на самом деле ваши уроки! Каким бы ни было умение стрелять, оно летит к чёрту, когда целишься не в картонную мишень, а в живого человека.
— Не подходите, — сдавленным голосом сказал я, но бородач и его товарищ с саблей, оставив чуть позади человека с факелом, медленно двинулись к нам, и вот тогда рука всё-таки дрогнула.
За плечом тихо ахнула Лайнхва, и я, не удержавшись, оглянулся: ещё двое разбойников (лучше буду называть их так, а не дикарями, чтобы не вспоминать лишний раз о животной природе ярости) подобрались с другой стороны, совсем близко. Луч фонаря ударил в глаза одному из них, Лайнхва увернулась от крепкой руки, что хотела схватить её, — это произошло так стремительно, что я ничего толком не успел понять. И всё же отвлёкся. Чернобородый справа ринулся вперёд, он был уже в трёх шагах, в двух, а реакции у меня катастрофически не хватало — и я выстрелил куда пришлось, лишь бы не прямо в грудь и не в голову. Лишь бы не насмерть…
Повезло. Просто несказанно повезло: пуля пробила ему правое плечо, и от неожиданной острой боли разбойник выронил оружие.
— Да он, никак, из Глеурда! — крикнул его приятель.
Я слышал его, но не видел: удостоверившись в том, что ранил, а не убил, я тут же оглянулся снова. Лайнхву явно не собирались убивать сразу, и это помогло. Разбойники схватили её было, но отвлеклись то ли на крик товарища, то ли на выстрел, хоть он и вышел приглушённым, а Лайнхва после нескольких дней путешествия с лордом Одаром была уже готова ко всякому и сумела вырваться.
Это был краткий миг, которым в данной ситуации непростительно было не воспользоваться. Второй выстрел оказался более осознанным, чем первый, и всё же и тут мне, скорее, просто повезло. Разбойник, оказавшийся ближе всех к Лайнхве, вскрикнул и пошатнулся, хватаясь за колено…
На этом лимит везения был, судя по всему, исчерпан.
— Осторожно! — крикнула Лайнхва, глядя мне за спину.
Чернобородый за эти пару мгновений успел поднять с земли свою саблю и уже замахнулся… Яркий упругий луч выбился откуда-то из-под моей руки, и нападающий инстинктивно отпрянул, закрывая лицо.
А ведь смерть подобралась на этот раз невероятно близко…
Не дожидаясь, пока я опомнюсь, Лайнхва схватила меня за руку и потянула за собой, вперёд, чтобы не находиться меж двух огней. Мы пробежали несколько шагов и у противоположного края каменной площадки остановились. Пятеро разбойников стояли теперь в один ряд, разозлённые и ещё более опасные, чем с самого начала.
— Ну, погоди у меня, удаурн поганый, — прошипел раненый бородач. — За всё ответишь…
— Беги, — быстро шепнул я Лайнхве.
— А вы? — оказалось, она до сих пор не отпускала мою левую руку. — Вы тоже?
«Лорд Одар, — прозвучало в голове. — Он ведь там, в доме, один, без оружия. Видит бог, мне не хочется играть героя, но… как я могу его бросить?»
Да и далеко ли мы убежим, если побежим вдвоём?
Не было времени думать дальше. Они надвигались на нас все разом — двое с саблями, двое с ножами и один с горящим факелом. А площадка для памятников была совсем узкой… Я выстрелил в третий раз, по ногам, но пуля едва-едва чиркнула по голени и никого не остановила. Выстрелил снова — вот когда от волнения затряслись руки — и теперь уже совсем промазал.
Я не знал, что делать. Мыслей не было, чувств не было, остался только бешеный стук сердца — в груди, в животе, в голове, в горле. Свирепо блестели глаза чернобородого прямо напротив моих, тёмно-синяя ночь подёрнулась мутно-серым туманом, в нём свернули, совсем рядом, три лезвия, вскрикнула Лайнхва, я зажмурился и выставил вперёд руку… правую…
И услышал — казалось, всё сразу — и глухой звук выстрела, и чей-то судорожный вздох, и хрип, и свист ножа, разрезающего воздух.
Застреленный в упор бородач упал с остановившимися, разом выцветшими глазами. Он уже не дышал, а я ещё не понимал того, что сделал. То есть понимал, но… не успел осознать. Рядом хрипел, захлёбываясь кровью, второй разбойник. Из горла его торчал кинжал, изломанные болью дрожащие руки бессмысленно тянулись к шее, он весь изогнулся и упал тоже. Остальные медленно отступали, в глазах, прежде горящих от злобы, стоял теперь ужас.
— Призрак! — выдохнул тот, которого ранило в колено.
Высокая чёрная фигура миновала меня; меч, ещё недавно угрожавший Лайнхве, покинул ножны — и в каких-то жалких две секунды двое разбойников уже были мертвы. Я увидел, как лезвие, только что пронзившее человека насквозь, с лёгкостью выходит из него, и ощутил, как подкашиваются ноги.
Последний член шайки выронил из рук и факел, и свой мешок; они упали на сырые после дождя камни, и что-то равнодушно звякнуло. Разбойник попятился, но тут же споткнулся и упал сам, навзничь. «Призрак» в один широкий шаг оказался над ним, наступил на грудь сапогом.
— Сжалься! — закричал несчастный. — Сжалься над безоружным!
«Призрак» замахнулся и резким движением всадил меч… нет, это только на миг показалось, что в горло, но всё-таки в землю, прямо возле шеи разбойника. Тот вскрикнул от страха и заскулил. «Призрак» убрал ногу.
— Прочь пошёл, падаль.
Приказ был выполнен незамедлительно, и я уже не смотрел, как разбойник, спотыкаясь, скрывается в медленно рассеивающейся темноте. Мёртвый бородач лежал, глядя в небо безжизненными глазами, и пальцы моей правой руки словно закаменели. В них до сих пор был зажат пистолет. Увидел его — и понял, что меня трясёт.
Ты всё-таки убил, Норд. Ты убил человека…
Мысль была невыносима. Я зажмурился и приложил все свои внутренние усилия, чтобы вырвать её из сознания, но не смог и, чтобы хоть как-то отгородиться, обернулся к Лайнхве.
Она стояла, согнувшись в спине, и прижимала руки к левому боку. Фонарь лежал на камнях, но света было достаточно, чтобы разглядеть бледность её лица.
Всё-таки задели, мерзавцы.
— Лайнхва! Ты ранена?
Она слабо улыбнулась — на моей памяти это был первый раз, когда она вообще улыбалась — но тут же болезненно поморщилась, а меня властным движением отодвинули в сторону.
— Отойди, — хмуро велел «призрак».
Он заставил Лайнхву сесть на землю и сам опустился напротив, а потом поднял руку и произнёс что-то на своём непонятном языке.
Приближалось утро…
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:31 | Сообщение # 60 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| ЧТО Я ПРОПУСТИЛА!! 
МДА, ДИКАРИ - ПРЯМО НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ! ЛЕЗТЬ ПОД ПУЛИ! РАНЕНЫМИ! ЗВЕРЬЕ БЕЗМОЗГЛОЕ!
ПРИЗРАК ЗНАЧИТ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РЕБЯТ. ПОЧЕМУ? ЧТО-ТО НАДО ОТ НИХ? НЕ ПО ДОБРОТЕ ЖЕ ДУШЕВНОЙ!
ЛЕНА, ОЧЕНЬ ЖДУ ПРОДЫ! ПРОСТИ, ЧТО СРАЗУ НЕ УВИДЕЛА! СТАРЕЮ ЧТО ЛИ... 
|
| |
| |
| Maniaka | Дата: Суббота, 07.03.2015, 18:49 | Сообщение # 61 |
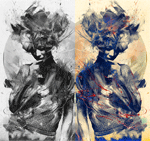 Лазуритовое перо
Группа: Авторы
Сообщений: 771
| Леночка, спасибо за продолжение.
Все же повезло нашим героям, что Легавый рядом. Сами бы не справились. А еще, конечно, очень рада за Лайнхву!!!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Суббота, 07.03.2015, 23:00 | Сообщение # 62 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Юля, Маша, привет! 
Спасибо, что читаете!
Цитата Арахна (  ) ДИКАРИ - ПРЯМО НАСТОЯЩИЕ ДИКАРИ! ЛЕЗТЬ ПОД ПУЛИ! РАНЕНЫМИ! ЗВЕРЬЕ БЕЗМОЗГЛОЕ!
тут ещё их злость свою роль сыграла. Ну и да - по глупости, не знали, насколько опасно.
Цитата Арахна (  ) ПРИЗРАК ЗНАЧИТ ЗАСТУПИЛСЯ ЗА РЕБЯТ. ПОЧЕМУ? ЧТО-ТО НАДО ОТ НИХ?
Насчёт этого не знаю)) пока ему вообще ничего не надо, вроде бы.
Цитата Арахна (  ) ПРОСТИ, ЧТО СРАЗУ НЕ УВИДЕЛА! СТАРЕЮ ЧТО ЛИ...
Ой, да я даже не заметила, как день прошёл - думала, что только вчера продолжение выложила. Не извиняйся! Я вообще иногда с таким опозданием читаю...
Цитата Maniaka (  ) Все же повезло нашим героям, что Легавый рядом.
И что Горностай имеет на него влияние 
Цитата Maniaka (  ) А еще, конечно, очень рада за Лайнхву!!!
Приятно, что смогла немного порадовать!)))
|
| |
| |
| AlenaKam | Дата: Пятница, 10.04.2015, 01:17 | Сообщение # 63 |
 Янтарное перо
Группа: Модератор
Сообщений: 292
| Привет! А когда будет продолжение?
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 15:56 | Сообщение # 64 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Привет! Очень рада  Я сейчас ненадолго приостановила работу над романом из-за отсутствия свободного времени, поэтому редко захожу на форум, но девятая глава дописана до конца Я сейчас ненадолго приостановила работу над романом из-за отсутствия свободного времени, поэтому редко захожу на форум, но девятая глава дописана до конца  Сейчас выложу кусочек))) Сейчас выложу кусочек)))Добавлено (13.04.2015, 15:56)
---------------------------------------------
Собака
— Ты умрёшь в глубокой старости в окружении своих близких.
Непривычно было накладывать благословение вместо проклятия, и слова прозвучали неестественно. По крайней мере для меня, а что до глеурдина — он вряд ли их понял. В том, что касалось спасения, воображение мне отказывало, поэтому пришлось просто сказать Тяжёлое слово, полностью противоположное первому. Не уверен, что это сработает, но быть может, Горностай и прав… В конце концов, девчонке досталось простое проклятие.
Со Скорпионом бы не сработало точно…
Рана была неопасная. Царапина. Завтра им можно будет продолжать путь, куда бы он ни лежал — правда, уже не так резво, как хотелось бы. Этот парень никогда раньше настоящих ран не видел — вот и перепугался, как ребёнок.
Я вспомнил о трупах, раскиданных по поляне, и усмехнулся про себя.
Мерно простучали рядом копыта: Горностай осмелился подойти и подвёл лошадь.
— Что ты с ней сделал? — спросил, наконец-то опомнившись, глеурдин.
— Он наложил благословение поверх проклятия, — вместо меня ответил Горностай. Ему явно было не по себе от того, что произошло, но он старался придать голосу бодрости. — Чтобы его отменить. Легавые так умеют. — Он положил руку мне на плечо. — Ведь ты же так и поступил, верно?
Назойливый, самоуверенный щенок… Да, я так и поступил, и всё потому, что от твоего нытья уже распухла голова. Но это был первый и последний раз.
В мешке, брошенном удравшим колптинцем, не нашлось ничего путного — одни только награбленные стекляшки и побрякушки. Мусор. На перевязку я изорвал нижнюю рубаху глеурдина: эти северяне каким-то образом умудряются всегда быть чистыми. По крайней мере в сравнении с колптинскими мужланами, от которых разит так, что и без нюха будешь от них шарахаться.
Глеурдин наглухо застегнул свою куртку, но я кивнул ему в сторону трупов и, сам не знаю зачем, сказал:
— Возьми у них рубашку и плащ, им уже ни к чему. А это выбрось, иначе проживёшь недолго.
Он медлил, не горя желанием облачаться в одежду убитых, но переборол себя и внял совету.
Снова пошёл неугомонный дождь. Я закончил с перевязкой и поднялся.
— Горностай!
Мальчишка сидел у чьего-то надгробного камня, почти ткнувшись в него носом.
— Тут написано что-то, — заявил он и с гордостью добавил: — Мама учила меня читать, я умею… немного. З-де-сь по-ко-ит-ся…
— Мы уезжаем. Вставай.
Он обернулся через плечо и с недоумением нахмурился.
— Как так?
— Спасибо, — неожиданно сказал глеурдин, и его спутница повторила слабым эхом:
— Спасибо.
Она сидела, обхватив руками колени и подтянув их к груди. На бледном измотанном лице блестели капли дождя, обветренные губы едва заметно дрожали. Ничего особенного — но меня вдруг пронзило что-то острое, холодное и страшное. Я передёрнул плечами, но жуткое наваждение не исчезло.
Хрупкая потерянная девочка, съёжившаяся под расплакавшимся небом… Нет, я не видел подобной картины прежде. Но она жила в воображении того, кем я был когда-то.
«…убегала к воротам и ждала тебя… Она не сходила с места… Несколько дней шёл проливной дождь…»
— Не могу прочитать дальше, — донёсся сквозь голос прошлого голос Горностая. — Никогда не видел таких букв.
Глеурдин подошёл к нему и пожал плечами.
— Это, кажется, староколптинский язык. Я не понимаю его. Может быть, твой… друг поймёт.
— Скажи, Ма… Легавый: что здесь написано?
«Здесь покоится священник Бранн из ветви Лиддара. Помните, что он всегда говорил: если меня убьют…» Дальше действительно следовали слова старого наречия. Я прочёл — и вновь похолодел. Поверх одного наваждения легло другое.
Горностай в который раз уже схватил за руку, но мне было не до раздражения.
— Ты понимаешь?
— Не мстите за меня, — выговорил я хрипло. — Здесь написано: «Не мстите за меня».
***
Тринадцатью годами ранее
Сосна, поваленная ветром, перекинулась через узкое русло горной речушки, и сидели на её стволе, держась за руки и глядя на отражение, двое подростков лет двенадцати-тринадцати. Девочка была премиленькая, с чуть вьющимися каштановыми волосами, веснушчатым личиком и большими голубыми глазами — истинная колптинка. Во внешности мальчика, темноволосого, смуглого и раскосого, напротив, угадывался уроженец Оринея. Он говорил что-то о здоровой рыбине, которую умудрился на днях поймать в этой самой реке, но вдруг осёкся: девочка слушала невнимательно и выглядела рассеянной.
— Что с тобой сегодня? — спросил мальчик.
Она помолчала немного, но всё же ответила:
— У меня такое нехорошее предчувствие… Будто на нас надвигается что-то ужасное.
Мальчик переложил её ладошку из одной руки в другую и обнял девочку за плечи, чтобы приободрить.
— Ну что ты такое говоришь? Сейчас же Белая эпоха, что может случиться?
— Не знаю, просто… — она вдруг уткнулась лицом в его шею и прошептала: — Ничего. Конечно же, ничего не случится.
На горы медленно спускался вечер, и небо, в которое гордо вонзался купол часовни вдалеке, окрасилось в сиреневый цвет. Успокаивающе журчал поток, пробегающий под прилёгшей сосной; в траве шелестел ветер, и от волос девочки пахло горечавкой, и не хотелось никуда идти.
Сидеть бы так целую вечность!
— Мабог…
— Что?
— Ты самый лучший на свете.
Тут мальчик понял, что слишком размечтался, и поспешно отодвинулся.
— Ты смутился, что ли?
Он нахмурился и с важным видом сложил руки на груди.
— Вот ещё! Просто ты всё время мёрзнешь и болеешь, а мне приходится тебя греть.
Не дослушав, девочка быстро поцеловала его в щёку. Щека мгновенно порозовела, мальчик вздрогнул, а девочка с блаженной улыбкой положила голову ему на плечо.
— Смутился…
Он вздохнул про себя: надо возвращаться, но как же не хочется!
— Идём, Килтэ, уже пора. Опоздаем — отец меня убьёт.
Это была не совсем правда: отец мальчика отличался чудесным, мягким нравом и ни разу не повысил на сына голоса, но тем меньше хотелось расстраивать его. Мальчик очень любил своего отца — до безумия, до благоговения, как могли любить только оринейцы, рождённые и проведшие первые годы жизни на свободе, а не под сетью глеурдинов. Иногда ему даже казалось, что он — это просто часть отцовского существа, как рука или нога. И если отец умрёт, он умрёт тоже.
Свою мать мальчик не помнил: она покинула этот мир очень, очень давно.
Они подоспели как раз к началу службы и даже сумели протиснуться в передние ряды, откуда мальчик мог видеть отца. Тот стоял на возвышении, и свет лился из его глаз, когда он рассказывал колптинцам о Корнях, и через слова священника Бранна оживали родоначальники древних стволов. Могучий Эаган — символом предводителя первых граурхенов был чёрный дуб — отчаянный Фадори и его огненная сосна, мудрый Икэри, выбравший своим талисманом янтарную иву…
— Чужаки! Спасайтесь! Чужаки!
Возглас распорол царящую под сводом часовни святость. Люди стали оборачиваться, ещё не понимая, чем вызван этот страх в голосе. Откуда? Белая эпоха идёт — с чего бы бояться чужаков? Пусть присоединятся к пастве, вспомнят о Корнях…
— Чужа…
Крик оборвался, и только тогда люди поняли, только тогда испугались. Снаружи послышался чей-то властный раскатистый голос:
— Не сметь сжигать часовню, наёмник! Часовня должна остаться невредимой!
Заплакали маленькие дети; в последних рядах, тех, что были ближе к выходу, закричала женщина. Кто-то толкнул мальчика сзади, он еле устоял на ногах, но люди всё напирали и напирали. Девочка пропала из виду.
— Килтэ! — звал мальчик. — Килтэ, где ты?
Толпа, словно гребень волны, забросила его на возвышение, и он наконец увидел ворвавшихся внутрь здания чужаков, похожих на дикарей-южан, но одетых и вооружённых почему-то как колптинцы. Откуда южане взялись в Сийендах, мальчик тогда не подумал. Они убивали! Проливали кровь в этом тихом, святом месте, которое он так любил!
Потом разглядел во всеобщей сумятице отца. Священник Бранн даже в эту сумасшедшую минуту выглядел спокойным и благообразным, даже теперь, когда шёл навстречу морю толпы. Шёл туда, откуда все остальные бежали. У него не было никакого оружия, да он и не держал его ни разу, а дикари резали всех без разбору и лишь детей не убивали — хватали и насильно уводили прочь.
— Отец! — мальчик бросился следом, расталкивая людей локтями. — Отец!
Двое дикарей вцепились в него и выволокли из часовни. Деревянные постройки были охвачены огнём, и дым поднимался в вечернее небо. Атакующие прикатили с собой катапульты, разрушали каменные стены, грабили дома… Но двое — очевидно, предводители — стояли недвижно у самого крыльца: длиннобородый великан с огромными рыбьими глазами и его невысокий спутник со злым лицом, чем-то похожий на тощего всклокоченного льва.
Всем своим существом мальчик чувствовал, как черны и зловонны их души.
Напротив них светлым чистым духом стоял священник Бранн.
— Отец! — мальчик рвался прочь из рук дикарей, но справиться с двумя взрослыми сильными мужчинами не смог.
— Во имя Корней, уходите и уводите своих воинов, — ровно, но требовательно сказал священник. — Опомнитесь! Прекратите лить кровь невинных, спасите свои души!
Великан выслушал его молча и ленивым движением вытащил из ножен короткий меч…
— Нет, пожалуйста… Нет!
Великан нанёс удар, мальчик дёрнулся в руках наёмников, отвернулся, зажмурился, из сдавленной болью груди вырвался дикий вопль. Но тут же внутри словно что-то взорвалось, он всё-таки высвободился и набросился на убийцу, готовый бить, кусать, царапать — всё, что угодно, лишь бы причинить врагу боль, пока не придёт смерть.
— Мабог, — простонал священник.
Он был ещё жив! Мальчик тут же забыл о великане и упал рядом с отцом на колени, приподнял его голову, стараясь не смотреть на страшную рану в животе.
— Ты же помнишь, что я говорил, Мабог? Не мсти за меня.
— Отец…
— Обещай мне! Обещай, что мстить никому ни за что не станешь.
Глаза его смотрели и строго, и с лаской. Мальчик отвёл взгляд, чувствуя, как бегут по лицу слёзы.
— Обещаю.
— И ещё поклянись, что будешь жить. Несмотря ни на что… вопреки всему…
— Но…
— Мабог!
Мальчик изо всех сил старался не закричать от отчаяния снова.
— Клянусь, отец. Клянусь не умирать… так долго, как только смогу.
— Вот и хорошо, — улыбнулся священник Бранн. — Очень хорошо… И не плачь, сынок. Ты уже взрослый. Не плачь.
Он так и умер — с тёплой улыбкой на окровавленных губах. Мальчик обнял его, но снова схватили за плечи чьи-то руки, потянули прочь.
— Пустите! — мальчик бился из последних сил, но сил почти не осталось. — Изверги! Нелюди! Пустите!
Подошёл великан — враг, который так и останется безнаказанным — взял за подбородок.
— Падаль, — выплюнул мальчик ему в лицо.
— Падаль? — убийца поднял брови и обернулся к своему спутнику, похожему на голодного льва. — Слышал, Авагди? Этот точно твой.
Человек, которого назвали Авагди, неприятно усмехнулся.
Собака
Я вспомнил…
Килтэ в тот вечер тоже забрали. Нет, девочки не ценились так же, как мальчики, ибо не могли стать Легавыми, но не в правилах Тэатала было убивать детей. Поэтому все захваченные в плен девочки становились служанками в доме Отмерших, а когда взрослели, их отправляли в колонию к остальным рабам. На работы куда более тяжёлые.
Но Килтэ попасть туда не было суждено.
Первые два года всё шло своим чередом, и она, эта глупенькая девочка, даже радовалась, что судьба нас не разлучила. Мы встречались редко, когда я был свободен от занятий и медитации, а она прибирала общий двор. Отмершие милостиво делали вид, что ничего не замечают, но я понимал всю мнимость этой независимости и знал: всё, что нам позволено, — держаться за руки и разговаривать, не сходя с места.
А потом мне исполнилось пятнадцать, и я стал Легавым. Авагди не имел привычки долго держать собаку на псарне, так что очень скоро меня спустили со сворки — и после первой своей жертвы, после первого проклятия я начал забывать прошлое. Родные горы, родной дом, родную часовню. Любимого отца. И ту Килтэ, с которой сидел на поваленной сосне в роковой для всех нас вечер.
И даже ту, верную и ласковую, что была рядом.
Впрочем, большую часть времени я шатался по восточной части острова в компании одного только гнедого коня и иногда — Дэбба. Раскидывал в благодатную почву зёрна, зёрна, бесчисленные зёрна Тяжёлых слов. Возвращался на псарню с гудящей от вони головой — изредка, ненадолго. И никого не хотел видеть.
Через полгода я забыл её имя.
Она плакала и умоляла вспомнить, ходила за мной по пятам, нередко пренебрегая работой и терпя за это наказание за наказанием. А однажды даже попыталась убить Авагди, но, разумеется, Охотник только посмеялся и почесал грудь в том месте, где прошёл нож. Я вспоминаю всё это сейчас, а тогда… тогда не обращал внимания.
Ещё через полгода Килтэ отважилась сунуть мне в руки коротенькую записку — просила встретиться во дворе, как только будет время. В тот день, смяв клочок бумаги и выбросив, я отправился в очередную поездку.
Нет. Не в очередную — в ту самую. Когда впервые проклял ребёнка.
По возвращении меня вызвал Тэатал, ненависть к которому уже успела умереть.
— Девочка убегала к воротам и ждала тебя, — сказал он. — Совсем перестала работать. Мы наказывали её плетьми, но она снова и снова убегала. Боялась, что ты вернёшься, когда она будет занята делами, и не станешь говорить с ней. Потом мы махнули рукой. Она не сходила места, ничего не ела и постоянно кашляла. Несколько дней шёл проливной дождь… Неделю назад девочка умерла.
Я так и не могу вспомнить, что тогда почувствовал. И почувствовал ли хоть что-нибудь вообще?
Прости меня, бедная маленькая Килтэ, навсегда оставшаяся пятнадцатилетней.
Простите своего сына, священник Бранн из ветви Лиддара. Он старался сдержать клятву, как мог, но я не уверен, что у него получилось…
— Не мстите за меня, — задумчиво повторил Горностай, проводя пальцами по надписи. — Это был очень хороший человек, раз он так говорил, да, Легавый?
— Не знаю, — жёстко ответил я.
«А ты, оказывается, настоящий счастливый талисман, щенок… — пришла невесёлая мысль. — Привёл меня прямо к моему прошлому. Вспоминай, Легавый, на здоровье, посмотри — может, и взвоешь…»
Глеурдин и Лайнхва (Лайнхва… да, верно: у Килтэ ведь была малютка-сестра) ушли в дом, где, как я понял, остался ещё один их спутник. Девушка ступала неуверенно, через боль, но парень подставил ей плечо. А Горностай отошёл от надгробия и огляделся.
— Как много слов, — пробормотал он, издалека глядя на самый большой памятник.
Подойти ближе он не решился: у подножия всё еще лежали четыре трупа.
— Это имена погибших, — сорвалось с языка.
— А что тогда здесь? — Горностай присел на корточки возле последнего камня и начал читать снизу вверх: — Бор-во, Даг-да, Бед-вир, Кил-тэ, О-лан…
И я понял, что сейчас он увидит…
— Не читай! — я бросился вперёд и встал между мальчиком и памятником. — Не читай, — добавил уже спокойнее.
— Почему?
— Потому что я так сказал. Времени нет, — взгляд ухватился за ближайшую хижину, и я кивнул на неё Горностаю. — Быстро внутрь, и спать. Скоро разбужу.
— Так мы не прямо сейчас уезжаем? — обрадовался мальчишка.
— Быстро!
Я подождал, пока он уйдёт, потом вытащил нож из горла убитого колптинца и несколькими линиями перечеркнул самое верхнее имя. Так, чтобы никто уже не смог его прочесть.
Возможно, люди, которые ещё придут сюда (если только кто-нибудь придёт), сочтут это за кощунство. Станут проклинать «того, кто это сделал» и с тяжёлыми вздохами приговаривать: «Бедный ребёнок…»
Пусть.
Мальчик вырос в плохого человека, и его имени тут не место.
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 18:15 | Сообщение # 65 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| Лен, спасибо за продолжение! Сногсшибательное! Воспоминания Мабога очень тяжелые!
Но все-таки он вспомнил, и становится человеком, человечнее, я хотела сказать.
Очень ему сочувствовала с самого начала, теперь еще больше понимаю
Как он теперь поведет себя с Лайнхвой?
А любовь будет, к стати сказать?
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 19:25 | Сообщение # 66 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Юля, тебе спасибо за отзыв! 
Не знаю, достаточно ли полно и ярко описала именно эти воспоминания - но с другой стороны, боюсь, что если будет не так скупо, станет тяжелее, а меня уже упрекали, что слишком всё безысходно и мрачно. Рада, что судьба Мабога вызывает сочувствие.
Любовь будет, конечно, но, как всегда, не в самом центре сюжета 
|
| |
| |
| Илиль | Дата: Понедельник, 13.04.2015, 21:06 | Сообщение # 67 |
 Жемчужное перо
Группа: Администратор
Сообщений: 1256
| В них всё, что нужно. Воспоминания приходят картинками и окрашены эмоциями, без точных деталей,
или как раз вспоминается какая-то деталь, а другое бывает прикрыто. Здесь всё гармонично, не переживай!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:55 | Сообщение # 68 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Привет! Интересно ты написала про воспоминания, я как-то не задумывалась и не подмечала, как это бывает. Спасибо))) переживать не буду)))
|
| |
| |
| Maniaka | Дата: Пятница, 17.04.2015, 15:42 | Сообщение # 69 |
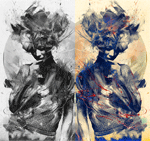 Лазуритовое перо
Группа: Авторы
Сообщений: 771
| Ой, вот очень рада тому, что любовь будет.
А еще мне очень хочется согреть Мабога. Почему-то кажется, что все в нем застыло, но если обогреть - он оттает.
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Среда, 29.04.2015, 16:06 | Сообщение # 70 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Маша, привет! Прости, что с таким опозданием отвечаю.
Может быть, так оно и будет, но не всё сразу  Спасибо за сопереживание))) Спасибо за сопереживание)))
|
| |
| |
| Angela | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 19:02 | Сообщение # 71 |
 Белое перо
Группа: Читатели
Сообщений: 1
| Очень нравится книга! Хочется знать что будет дальше!
Спасибо автору!
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Пятница, 19.06.2015, 14:30 | Сообщение # 72 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Angela, спасибо вам большое за добрые слова! Рада, что нравится, в июне буду потихоньку продолжать)))
Добавлено (17.06.2015, 14:17)
---------------------------------------------
Глава 10,
о том, что случается, когда устаёшь притворяться и терпеть, в которой сбывается предсказание Ируди и Норд превращается в Итгри, а призраки на плечах сдерживают своё зловещее обещание.
Пастух
«Я убил человека, — металось в голове, расшатывая привычный мир. — Я убил человека. Я убил…»
Но мысль эта затерялась в звенящей пустоте и сменилась другой, ещё не оформленной, но уже сцепленной с дурным предчувствием, когда мы дошли до места ночёвки и перед нами предстал лорд Одар Роурек.
Никогда ещё не видел его таким хмурым. Руки сложены на груди, черты заострились, лицо посерело, в глазах — нет, не злость, не гнев, но, наверное, именно так смотрят на нечто совершенно недопустимое, с чем нельзя ни в коем случае примириться.
А смотрел он на надпись на земле у порога, которую нацарапала Лайнхва и которую я, дурак, и не подумал стереть. В груди неприятно заскреблось ощущение непоправимого, перед глазами так и встали слова: «Моя душа — птица в темнице Высшего Разума». Идиот… Побоялся наступить на чужой след, на душу чужую, чистую, искреннюю, доверчивую. Не решился — а теперь ведь профессор это так просто не оставит. И неизвестно ещё, чем всё закончится, но явно не чем-то хорошим.
Лайнхва, разумеется, тоже почувствовала недовольство лорда Одара. Она высвободилась и, едва заметно поморщившись, отошла подальше от меня. Прятала взгляд… Не знаю почему, но и я в тот миг не знал, куда деть глаза.
Профессор посмотрел на нас и едва заметно приподнял бровь. Во взгляде, скользнувшем по мне, промелькнуло удивление, но объяснять ему, зачем нарядился колптинцем, я не стал.
— Что произошло? — ровным голосом спросил он.
Я шагнул к нему и протянул пистолет. Надпись оказалась прямо между нами.
— Лайнхву ранили какие-то люди. Но не волнуйтесь: опасность миновала.
— Это я понимаю, — сухо сказал лорд Одар, принимая пистолет и глядя на него совершенно равнодушно. — Меня волнует совсем другое… — показалось, что он был готов указать строгими глазами вниз, на землю, но нет: даже если и хотел, то сдержался. — Теперь она не сможет продолжать путь.
Я подавил в себе желание обернуться и проверить, всё ли хорошо с Лайнхвой. Взгляд профессора не отпускал.
— Думаю, сможет. Если переждём этот день и пойдём чуть медленней…
— О чем ты, Норд? — густые брови с лёгкой сединой на мгновение сошлись и тут же разошлись. — Мне жаль, конечно, но она будет задерживать нас, а времени нет.
В груди заскреблось сильнее.
— Вы… вы же не хотите сказать, что мы её бросим?
Молчание и непреклонность на каменном лице в ответ.
— Мы не можем просто так взять и бросить её!
— Мы не можем просто так взять и пренебречь заданием ради одного человека, Норд, ведь это противоречит всем канонам, — словно время отмоталось назад, и я снова слушал размеренную наставительную речь воспитателя из ЦВЛ. — Не забывай, что самое главное для нас — найти и устранить причину аварии.
— Для нас? Или для вас?
Профессор выпрямился, ошеломлённо моргнул, и только тогда я понял, что не выдержал и сказал лишнее. Но странно: раскаянья не было. Ни капли. Коготки недобрых предчувствий исчезли, и теперь в груди разливалось что-то прохладное и успокаивающее, как накатывающая на выжженный солнцем берег волна.
— И уверены ли вы, что вам удастся устранить причину?
— Без сомнения, — профессор быстро пришёл в себя. — Взгляни на то, как живут колптинцы, Норд, и вспомни Глеурд. Высший Разум способен на всё.
Да, на всё, подумалось с горечью. Или почти на всё. Звериное начало подавило вашу сеть, потому что вы подавили начало духовное, а про него забыли. Но что, если бы вспомнили? Вы проиграли в первой битве, но что вам стоит придумать новую систему или просто перекроить старую, ужесточить её и задушить бессознательное полностью? О, вы бы смогли. Вы бы всё исправили, и перестала бы литься кровь. Ведь колптинцы — это же звери, в вашем понимании, не так ли? С наступлением этого Красного года слишком многие вышли из-под контроля, хотя раньше «эксперимент всегда проходил удачно»…
Вы накажете их всех. И тех, кто отпустил зверя слишком далеко, и тех, кто даже при выключенной сети, слышит эхо Высшего Разума из своего подсознания. Вы задавите их десятикратно усиленным внушением, и теперь уже точно превратите в роботов, и больше не будет крови, не будет смерти — и жизни тоже не будет.
Вот почему я не стану делиться с вами своими мыслями, вот почему буду верить, что есть иной способ остановить Красный год и вернуть Белую эпоху.
— Нельзя бросать Лайнхву. Это бесчеловечно.
— Норд, — лорд Одар взял меня за локоть и подался чуть вперёд. — Доброта похвальна, но не тогда, когда наносит ущерб рациональности. Ты не можешь не понимать, что эта девушка нездорова и тебе… — тут он почему-то посмотрел на меня с сочувствием, — тебе нежелательно, даже опасно находиться рядом с ней.
— Она здорова.
Я вырвал руку. Лорд Одар терпеливо перевёл дыхание и наконец-то опустил взгляд.
— Мне остаётся надеяться, что, если ты говоришь так, значит, ты ещё не читал…
— Я читал, — перебил я уж совсем бесцеремонно. Волна обратилась высоким пенящимся валом, и казалось, гул его стоит в ушах. — И говорю вам, что она здорова.
— Вот то, что я имел в виду, — покачал головой профессор. — Она уже плохо повлияла на тебя.
— Вы ошибаетесь. — Вал внезапно обрушился на берег, энергия его высвободилась, и взметнулись слова-брызги, спасительные, поначалу беспорядочные, но постепенно обретающие форму: — Я сам… уже давно… всю жизнь ненавидел наш пустой бессмысленный мир. Отовсюду только и слышно: мы рационализируем жизнь, мы повышаем социальную мобильность, мы делаем всё, чтобы людям было легко и комфортно… Конечно, зачем воспитывать детей? На это уходит столько времени и нервов, лучше уж пусть их воспитывают профессионалы из ЦВЛ. Ведь дети нужны, чтобы двигать человечество вперёд, поддерживать старость и ни для чего больше. Зачем создавать семьи? В этом вообще смысла нет. Зачем верить в бога? Зачем что-то чувствовать и усложнять себе жизнь? Лучше быть биомашинами и не отвлекаться на старомодные глупости… Мы ведь ценим только то, что можно увидеть, потрогать или посчитать, верно? А в душе копаться — это же так нерационально! Да и к чему в ней что-то искать? Любовь какую-то непонятную, сострадание, человечность… Что это вообще за бред, если нельзя объяснить их Высшим Разумом?
Я знал, что речь эта не впечатлит лорда Одара. Она только рассмешила когда-то моих сокурсников во главе с Зотом и Рэйном, а что говорить про профессора ИЗВРГ? Наверное, сейчас он думает: «Действительно: зачем нам любовь? Зачем нам семьи? Зачем родители и дети? Зачем бог?..»
Пусть думает, что хочет! Впервые за всю сознательную жизнь мне было… легко.
— А вы хотите, чтобы я работал над сетью… чтобы строил здесь, в Золотой Колпте, такой же мир, как наш, и отнял у этих несчастных, может быть, последний шанс остаться людьми.
Профессор положил тяжёлые ладони мне на плечи, острый стальной взгляд впился в моё лицо, и серая пелена этих глаз была подобна серой пелене грозовых туч, за которыми, где-то далеко, то и дело вспыхивают молнии.
— Норд, я всё-таки убеждён, что ты болен и не понимаешь, что говоришь.
Что же вы так, лорд Роурек? Разве ваши глаза не хотят сказать нечто иное?
Он бросил мрачный взгляд в сторону, на Лайнхву, и я повернулся тоже. Лайнхва стояла, прижав руки к груди, и переводила растерянный взгляд с меня на профессора. Потом вдруг отступила на шаг, на два.
— Зачем вы ссоритесь с отцом из-за меня, молодой господин? — спросила чуть не плача. — Не надо так. Я как-нибудь сама.
— Но как же…
— Прощайте, — она поклонилась, придерживая рукой раненый бок, отвернулась и захромала прочь.
— Нет, стой!
Я пошёл было за ней, но лорд Одар снова схватил за локоть. Какое же каменное лицо! И всё тот же непреклонный жёсткий взгляд… В какой-то момент, оборачиваясь, я думал, что ненавижу его. Но тут же испугался своих же ощущений.
— Не смей, Норд, — сказал профессор. — Даже не думай.
— Простите меня, милорд, — это обращение звучало куда правильней. — Я не уверен, что смогу называть вас отцом, и не думаю, что стану достойным продолжателем фамилии Роуреков. У вас есть долг… хорошо. Но я не могу бросить человека, который был готов отдать за меня жизнь. Что бы вы ни говорили.
— Даже не думай! — громче повторил профессор.
— Надеюсь, Высший Разум подсказывает вам, что силой вы меня всё равно не удержите.
Я прошёл мимо него в дом, перекинул через плечо сумку, в которой между тоненьких страниц «Истории Золотой Колпты» лежало послание старого Ируди, и поспешил за Лайнхвой. Оглядываться было страшно: спасительная волна отхлынула, и вместе с ней уходили и энергия, и смелость говорить свободно. Тогда я ощутил, как вспотели ладони, и мелкая дрожь пробежала где-то внутри. Попросили бы повторить всё то, что не сдержался и выплеснул, — не смог бы. Но лорд Одар больше не пытался меня остановить и ничего не сказал на прощание.
Нет, я всё-таки не мог его ненавидеть, сколько бы не убеждал себя, что он — олицетворение ненавистного мне мира. И уходил с камнем на сердце, унося в памяти не хмурого профессора, стоящего над нацарапанной на земле надписью, а того, кто десять дней назад сказал: «Я умираю, Норд». Так сказал, что в этом уже нельзя было усомниться. Впервые я поймал себя на жгучем желании, чтобы тот человек жил, и желание это становилось тем сильнее, чем яснее и обиднее было сознавать: сам он не подозревает, как быстротечно оставшееся ему время и как бесценно каждое мгновение.
Очень редкий вирус. Врачи бессильны. О, лорд Одар, быть может, эта болезнь — последний шанс, подаренный вам богом? Последний шанс понять, как ничтожна эта ваша рациональность… Но почему вы по-прежнему слепы?
Я догнал Лайнхву уже у порога какой-то лачуги, где она, по-видимому, собиралась отдохнуть после всех тревог и ужасов прошедшей ночи. Увидев меня, она вздрогнула, но сказала твёрдо:
— Нет, возвращайтесь к отцу. Не хочу быть вам обузой.
Я собирался ответить на это, что не желаю больше оставаться рядом с лордом Роуреком и что она тут вообще ни при чём, но не смог. И то и другое было неправдой.
— Ты не обуза. Просто я хочу пойти с тобой. Знаешь, я ведь с детства мечтал увидеть, какая она — Золотая Колпта.
— Теперь это слишком опасно.
— Ничего, ваш старец меня подготовил. А ты могла бы говорить людям, если вдруг кто встретится, что я твой брат. Только, пожалуйста, больше не называй меня молодым господином.
Лайнхва удивлённо моргнула.
— А как же иначе вас называть?
— Меня зовут Норд.
— Это имя вам совсем не подходит. Я ещё в первый день подумала: оно холодное и строгое, самое настоящее глеурдинское, а вы… не такой, — сказав это, она стыдливо опустила глаза и приложила ладони к покрасневшим щекам.
— Ну, хорошо, — я улыбнулся, — тогда зови Итгри. Этим именем мне посоветовал прикрыться отшельник — если окажусь среди колптинцев. Так и будем теперь считать: я Итгри, а ты моя сестра Лайнхва. — Я прошёл мимо неё в дом и оглядел пустую комнату с серыми стенами и полуразвалившимся камином. Порылся в сумке, нашёл завёрнутый в чистый платок хлеб и нетронутый пока коробок со спичками. Кажется, ещё не успели отсыреть. — Холодно тут… Пойду, найду что-нибудь, чтобы развести огонь, а ты поспи, набирайся сил.
— Но вы тоже устали.
— Сейчас всё равно заснуть не смогу. Намного лучше заняться делом. Чтоб не думать…
Она поняла больше, чем я собирался сказать. Осмелилась дотронуться до моего плеча.
— Вы не виноваты. Ни в ссоре с отцом, ни в том, что тот человек умер. Никто не виноват.
Что-то мягкое и тёплое скользнуло мне в душу вместе с этим робким прикосновением и смущённым, но ласковым взглядом. Я посмотрел на неё со всей благодарностью, на какую только был способен, и вышел.
Пока Лайнхва спала, а я, с горем пополам покончив с огнём, сидел у порога, безучастно глядя прямо перед собой, уже окончательно рассвело и наступило утро. Тихое-тихое утро — как будто весь мир вокруг вымер. Спать действительно совсем не хотелось, но странное состояние, сковавшее меня, опустошённое, без мыслей, само по себе походило на сон.
— Куда вы идёте?
Я вздрогнул. В трёх шагах от лачуги, сложив руки на груди, похожий на зловещую статую, стоял «призрак». Или Легавый, как называл его мальчик, Горностай.
Значит, не уехали ещё, как собирались.
— Идите на юг, к тракту Овна, — не дожидаясь ответа, сказал Легавый. — Сейчас все мирные жители из окрестных деревень стекутся туда, а дальше — по тракту к столице. По крайней мере, на их месте я поступил бы именно так. В столице, пожалуй, спокойней всего.
— С чего вдруг такое участие? — удивился я.
— Мальчишку возьмите с собой.
Это была не просьба. Но и не приказ, а что-то такое… холодное и равнодушное. Мол, оставляю вам, а не возьмёте — и ладно, всё равно.
Я кивнул. Мне подумалось, что с ним ребёнку будет, хоть и безопаснее, а всё же ох как несладко. Легавый медленно кивнул в ответ.
— Твоя спутница должна знать, как дойти до тракта.
— Мы найдём дорогу. Где мальчик?
— У часовни. Спит.
Он уже собирался идти, но тут послышались торопливые шаги, и из-за угла соседнего домишки вынырнул задыхающийся и раскрасневшийся будто от волнения Горностай. Замер, как принюхивающийся к ветру зверёк, готовый в любой момент сорваться с места и ринуться дальше, несколько мгновений оглядывал нас своими большими выразительными глазами, потом улыбнулся с облегчением и бодро воскликнул:
— Так мы пойдём теперь вместе! А я думал, куда ты вдруг пропал!
— Не мы пойдём, а ты пойдёшь, — ровным голосом сказал Легавый. — Вместе с ними.
— Погоди, а как же ты?
— А я не собираюсь носиться с тобой до конца своих дней. Хотел передать тебя в руки людей — и передал. Больше тут не о чем говорить.
Он отвернулся, но мальчик схватил его за рукав.
— Постой!
— Так жаждешь, чтобы тебе перерезали глотку вместе со мной?
— Н-нет, но…
— Тогда оставь меня в покое.
Но Горностай не сдавался, а мне оставалось лишь наблюдать за этой странной сценой и удивляться: что такого разглядел в своём мрачном спутнике этот ребёнок? Почему держится за него, не желает отпускать, в то время как другой на его месте радовался бы расставанию, как весеннему солнцу?
— Я не хочу, чтобы ты уходил, — негромко сказал мальчик, но что-то пробрало меня от этого взрослого «негромко». — Ты же… человек. А человек не должен быть один.
Легавый оттолкнул его, так резко, что бедняга упал на землю. Я подбежал к нему, помог подняться.
— Ты что делаешь?!
Легавый не обратил на меня внимания, словно не слышал.
— Запоминай хорошо, щенок: ты мне не нужен. Мне нет дела до того, чего ты хочешь. Мне нет дела до того, что с тобой случится дальше. И тебе же будет лучше, если я уйду.
После этого «призрак» больше не оборачивался. Сосновый лес сомкнулся за его спиной, а Горностай стоял и смотрел вслед, совершенно потерянный и несчастный.
— Пойдём, — я похлопал мальчика по худеньким плечам. — Если он сказал, что лучше держаться от него подальше, наверное, так оно и есть.
— Нет, ты не понимаешь, — замотал головой мальчик, и в его голосе мне послышались едва сдерживаемые слёзы. — Он же мне жизнь спас…
Насилу я убедил его оставить всё как есть, отвёл в дом и усадил у очага. Проснулась Лайнхва. Храбрилась, превозмогая боль, улыбалась, сказала, что скоро уже сможет продолжать путь, и уговорила меня отдохнуть перед дорогой. Я лёг, поворочался с боку на бок, стал смотреть сквозь ресницы на тех, с кем так неожиданно свела меня судьба. Лайнхва сидела рядом с Горностаем, гладила мальчика по голове и всё пыталась его утешить. Так, глядя на них, я и заснул…
Из глубин неспокойного сна то и дело выплывали то лорд Одар, то чернобородый с перекошенным злобой лицом, то оскал собачьей пасти над окровавленной сталью. Временами я просыпался и окидывал хижину затуманенным взглядом, потом вновь начинал дремать, и так, в каком-то полузабытье медленно текло время.
— Про лошадь забыли, — откуда-то издалека донёсся голос, потом шаги. — Она там осталась, у часовни. А ты сиди, ты ранена.
— Не ходи!
— Да ведь я быстро…
«Это не во сне, — пришла мысль. — Это Горностай, он пошёл за лошадью, чтобы…»
Дремота слетела с меня. Я вскочил. В хижине было пусто. Лайнхва выбежала на улицу вслед за мальчишкой, но из-за раны не смогла ни удержать его, ни угнаться за ним. Я велел ей остаться, а сам со всех ног бросился к часовне.
— Горностай, постой!
Поздно. Он уже добежал до места, оттолкнулся ногой от какого-то камня, неумело навалился животом на конскую спину… Испуганная лошадь заржала, взбрыкнула передними копытами и понеслась вперёд. Горностай едва успел вцепиться в гриву, а я так и вовсе ничего не успел. Не успел остановить его, не успел усмирить лошадь, не успел ничего предпринять, когда она промчалась мимо меня… И напрасно пытался догнать: они скрылись в чаще.
Добавлено (19.06.2015, 14:30)
---------------------------------------------
Собака
Только углубившись в чащу, где пахло хвоей и мокрым мхом (всегда любил этот запах: он перебивал тот, другой, сопутствующий Легавому неотступно, а потому приносил облегчение — во всяком случае, на время), я наконец-то понял, отчего был так зол, уходя. Не на мальчишку, нет — на себя был зол. За то, что на какой-то краткий миг увидел в нём себя, того, кем был когда-то. За то, что позволил тому воскреснуть в совершенно чужом для меня ребёнке. И тот вцепился в этот шанс, в шанс Горностая остаться просто человеком, вцепился в чужую надежду, которой у него самого никогда не было. И упивался ей, как своей собственной.
Неприятное чувство охватило меня — такое было в Бесовском Котле, в этом аду для Легавых, каждый день, когда живые люди, заключённые, смотрели на меня, а маски не было… Не совладав с собой, я поспешно поднял руки к лицу — и освободился от мерзкого червяка в груди, только когда ощутил под пальцами холодную поверхность металла вместо тёплой кожи.
Врёшь, мертвец… не позволю.
Внезапно где-то вдалеке, слева глухо простучали по земле копыта, что-то прохрустел, явно недовольно, ломающийся подлесок, потом стукнуло, треснуло, ухнуло, послышалось жалобное лошадиное ржание. Я повернул в ту сторону, откуда доносились звуки, — мимо воли, не думая, что за сила схватила меня за шиворот и не позволила просто взять и пойти дальше. Казалось, даже редкие сосны расступались, словно и они, проклятые, были покорны этой самой силе.
До слуха моего донеслось ещё что-то непонятное — не то плач, не то стон. Запах тревоги вплелся в ветер, чаща вокруг зашевелилась, зашелестела, потекла: кто-то живой двигался в ней, подобно мне, прямо навстречу неосторожному источнику звука. Кто-то живой, ловкий и быстрый — в этом я убедился, когда впереди тихо вскрикнули, а в ответ этот кто-то утробно зарычал.
Звери! Теперь понятно, отчего я не учуял их заранее. Звери гниют не так, как души. Их губят черви — не псы.
Я побежал, выхватил на бегу оружие и вылетел, ломая ветви кустарника, в заросший травой лог. От неожиданности чуть ли не кубарем спустился вниз по склону, успев увидеть: у другого края лощины, возле подвернувшейся к несчастью толстой коряги, лежала лошадь, передние ноги её были неестественно подвёрнуты, она истошно, почти по-человечески визжала, а рядом, вгрызаясь в мясо, пировал хищник из карающей стаи. Его сородич, мерзкая громадина с чёрной шерстью и горящими глазами, облизываясь, подбирался к сидящему на земле и обомлевшему от ужаса Горностаю.
Зверь прыгнул одновременно со мной, и лезвие сабли застряло у него в черепе. Мальчишка, до того по-щенячьи скулящий, только теперь закричал, ожил и отполз в сторону. Второй гигант небрежно махнул куцым хвостом, оставил в покое лошадь и двинулся к нам. Принюхивался ко мне, мешкал — но ничего, всё-таки решился. Его встретил меч, остриё нащупало горячее звериное сердце и вышло со спины. Трёхцветные глаза, сверкнув напоследок, потухли.
Я молча подошёл к несчастной лошади и одним ударом завершил начатое хищниками, потом убрал окровавленное оружие и огляделся. Странно… Каким образом карающая стая, которую выпускают на время Красного года в Бесовской Котёл, очутилась здесь, в Сийендах, на свободе?
Горностай вцепился в мои руки и неожиданно зарыдал. С его пересохших губ срывались не совсем связные слова:
— Лошадь… она понеслась, а я не умею… коряга тут… она споткнулась и упала, а я… так жалко, она как будто плакала, и я вместе с ней… и тут вдруг они… прямо ей на спину… и кровь…
Попробуй пойми десятилетнего ребёнка! О лошади плачет, а сам лишь чудом жив остался. Ругаясь про себя, я положил руки мальчику на плечи, чуть встряхнул его, опустился рядом на колени. Но вместо того, чтобы успокоиться, Горностай только ещё горше расплакался и прижался ко мне. Это было уже слишком, но я неожиданно понял, что терплю и не отталкиваю его. Более того — рука моя мягко похлопывала мальчишку по голове в знак утешения.
Однако времени размышлять о том, что это было, не осталось: внезапно усилившийся запах разложения вернул мои мысли в нужное русло. Нельзя, нельзя забывать, что мы ещё не достаточно оторвались от преследователей…
«Он здесь», — понял я и поднял глаза.
Ройг молча стоял у края лощины. Смотрел на нас, и его тяжёлый взгляд, брошенный поверх лошадиного трупа, готов спорить, был куда тяжелее меча, тускло поблёскивающего в его руке. Впрочем, и то, и другое достаётся мне: первое — уже, а что до второго — ждать осталось, возможно, совсем недолго. Ройг хороший мечник. По крайней мере, был им когда-то.
— Что там, пёс? — донёсся издалека мужской голос, чуть приглушённый шелестом пожухлой листвы на ветру.
Эшон, старый знакомый…
Горностай вздрогнул, дёрнулся — но я не позволил ему обернуться и, не особо заботясь о том, как странно, должно быть, выгляжу, крепче прижал к себе. Так крепко, что не мог теперь понять: это его сердце так часто бьётся или всё же моё? И неужели это я так за него испугался? Да нет, что за глупости! Просто…
Мысленно я уже тянулся к рукояти меча и прикидывал, в какую сторону лучше толкнуть мальчишку, чтобы не путался под ногами. Всё будет честно, Ройг, потому что кому как не Легавым знать, что каждому воздастся по заслугам? Даже если невинному ребёнку придётся умереть от руки нашего старого «друга» Эшона — всё будет честно, как ты любишь, так что давай, не мешкай. Проверим, не растерял ли ты навыки, пока сидел на цепи.
— Ну, что там? — на этот раз голос прозвучал совсем близко, и Горностай прижался ещё теснее.
— Ничего, — крикнул Ройг, глядя мне в глаза.
Отвернулся и скрылся в чаще.
О, я понял этот красноречивый взгляд! Ты обещал отпустить мальчика, обещал, что его не будет рядом с тобой, когда я найду тебя, так почему он до сих пор при тебе? Я отпускаю вас сейчас — спрячь его. В следующий раз пощады не будет.
Вот что говорил мне это взгляд, хотя в действительности — я точно помнил — ровно ничего я Ройгу не обещал.
Какое-то время мы прислушивались к отдаляющемуся шелесту потревоженного леса, но вот Горностай, поняв, что опасность миновала, завозился, отступил на шаг и поднял покрасневшие от слёз огромные глаза. Теперь он, скорее, стыдился своего плача, чем боялся, и как будто просил прощения за доставленные неприятности.
Да, малец, ты потрепал мне нервы.
— Мабог, — пролепетал Горностай и как-то смущённо шмыгнул крохотным носом. — Я… ты…
Я сжал зубы. Сопляк — он и есть сопляк, но…
Но почему снова по имени?
— Мабог…
«Замолчи», — твердил я про себя, а он сказал снова — это страшное, острое, как нож, слово — тогда я схватил его за ворот рубахи и поднялся на ноги. Горностай повис в воздухе, его глаза были на одном уровне с моими. Уже сухие. О чём-то просящие… Будь ты проклят, будь ты трижды проклят, рождённый рабом! Испугался безмозглых тварей, не выдержал, разревелся — а что же теперь? Хоть каплю страха! Вот сейчас схвачу за горло и задушу тебя голыми руками, а ты даже не пикнешь. Хоть каплю…
Но страха не было.
Будь ты сотню раз проклят.
Даже когда оказался брошенным, как мешок, на землю, он едва слышно охнул — и только-то.
— Мабог…
Я передёрнул плечами и отвернулся.
— Глупый ребёнок… Тебе же так повезло, когда выпало «нет», а не «да». Ты и представить пока не можешь, как тебе повезло. Забыть про Авагди, про Тэатала, прожить обычную жизнь и никогда не стать Легавым. Но ты сам, сам напросился. Сам залез куда не следовало. А ведь я говорил оставить меня в покое…
У него был шанс остаться человеком. Был — и нужно было бежать без оглядки. А теперь уже поздно: я захотел — остро, всем сердцем захотел, чтобы он стал Легавым, чтобы потухли эти глаза, чтобы напряжённая морщинка прорезала этот чистый лоб, чтобы вечная брезгливая складка пролегла у носа. Чтобы он умер, как я когда-то, и чтобы тот умер окончательно.
И пусть не будет никакой надежды. Надежда — не для Легавых.
Пришло время сказать это не Ройгу, а самому себе.
***
Весь этот и весь следующий день Ройг казнил себя: слабак, слабак… Не человек — бесхребетная вшивая дворняга. Нет, что ребёнка пожалел и отпустил — это понятно, но не один тут ребёнок! Не одна тут жалость! Тут другое, тут чёрт знает что.
«А как обнимал-то его, — вспоминал Легавый, морщась. — Успокаивал, чуть ли не по головке гладил, защитить хотел. Это он-то — защитить?! А я… купился! Как сопливый щенок, купился. Дрогнул… и не мальчишку пожалел. Его пожалел! Но больше — не буду».
На тринадцатый день Красного года, уже под вечер, на плечо Эшона сел большой чёрный голубь. К лапе его была привязана записка. Пока Отмерший разворачивал её, Ройг внимательно наблюдал за его сухим напряжённым лицом, гадая, что такого важного могло произойти, если Тэатал не может даже дождаться их возвращения. А Эшону хватило буквально одного взгляда — прочитал, гневно смял в кулаке и швырнул комочек в траву. Гадкое предчувствие сжало Легавому сердце…
— Возвращаемся, Ройг! — и Отмерший двинулся к своей лошади.
Ошеломлённый Ройг не тронулся с места.
— Как возвращаемся? Нет!
— Ты слышал, собака, что я сказал? — Эшон вышел из себя — и это был очень плохой знак.
— Как возвращаемся?! — не унимался Легавый. — Да что случилось?
Спрашивал, а у самого в ушах так и гудело эхо: «Авагди, Авагди, Авагди…»
Эшон долго и тяжело смотрел ему в глаза.
— В колонии восстание. Я срочно нужен Тэаталу.
Несколько долгих, наполненных молчанием секунд понадобилось Ройгу, чтобы осознать услышанное. Когда же весь смысл дурной новости дошёл до него — странно, но в первую очередь он подумал почему-то не о самом главном, нет. Не о том, что началось всё непременно с Авагди и что Авагди, может быть, уже на свободе. Не о том, чем чревато его бегство, не о крови, которая прольётся. Он вдруг ясно понял, что не может просто так вернуться назад.
— Надеюсь, хоть теперь ты понимаешь, что лишить его благословения Ируди было ошибкой с вашей стороны? — спросил Ройг холодно. — Уже второй ошибкой, которую Отмершие совершили из ненависти. Первая была, когда вы заточили Урта, Дэбба, Мабога и Хана в Бесовском Котле. Вы предполагали, что Красный год не скоро, что они всё равно не доживут до него — так что пусть помучаются, верно? А до той поры и Ройга можно не убивать — пригодится ведь… А надо было сразу казнить нас — всех пятерых казнить.
— Хватит болтать! Живо садись на коня, времени нет! Ты не понимаешь, что произошло? Да если эта сволочь…
— Эшон, отпусти меня.
Отмерший замер с вытянувшимся лицом. Конечно — всего ожидал, но только не подобной наглости. Ройг даже горько усмехнулся про себя: «Что же это я говорю? Когда Отмершие вообще кому-нибудь доверяли? Нет, не отпустит. Он, в отличие от меня, не дурак…»
Но всё же стоило хотя бы попытаться.
— Я буду преследовать его до самого конца, — почему-то шёпотом сказал Ройг, не уточняя, кого — «его». — Я хочу убить его.
И вот тут случилось невероятное: Эшон устало прикрыл глаза, молча шагнул к лошади, медленно и осторожно расстегнул ремни, которыми к седлу его крепился небольшой серебряный ларец, и с этим ларцом в руках так же молча подошёл вплотную к Ройгу. Лёд в его волчьих глазах на мгновение вспыхнул стальными лучами.
— Я не доверяю тебе. Но то, что ты больше всего на свете хочешь убить его — в это я верю.
Он протянул ларец Ройгу. Внутри, на тёмно-бордовом бархате, в специально проделанных углублениях, лежали два кинжала-близнеца с изогнутыми, испещрёнными мелкой резьбой лезвиями. Оружие тончайшей работы. Два шедевра, рождённые для того, чтобы убивать. И как бы ни готовился Ройг к скорой смерти, ему стало не по себе, когда представил, что вот один из этих-то красавцев и заберёт навсегда его короткую бессмысленную жизнь…
— Они отравлены?
— Да. Работа Тэатала. Достаточно будет и одной царапины.
***
Туман. Мутный и грязно-серый, едкий, как дым. Туман — и бледное утро казни, когда у ворот колонии показательно, в назидание остальным рабам повешены трое несостоявшихся беглецов, рванувшихся вслед за Авагди к недостижимой свободе.
Сам Авагди стоит в толпе и почти не видит, что происходит на наспех сколоченном помосте, не видит бледных, озлобленных лиц тех, кого сам же обрёк на смерть, не видит наёмников из Дикого Народа, не слышит робких голосов вокруг себя. Перед глазами его пелена: Они пришли. И взялись за дело сами, как и обещали.
— Послушай, братец, ведь тебе же проще не протестовать и не мешать нам. Пусти-ка нас вперёд, мы сделаем это лучше.
«Прочь!» — скорее по привычке думает Авагди.
— Зачем же так грубо? Мы помочь тебе хотим.
«Помочь? Вы?! О нет, вы хотите лишь крови, крови и крови».
— Ты прав. Крови, хаоса, разложения, зверств человеческих… А разве может быть иначе? Ведь мы — чистейшее воплощение ненависти и злобы. Твоей злобы, между прочим. Потому что это ты нас создал. Помнишь? Создал, убив нас, когда мы ещё были людьми…
«Я тоже тогда был человеком», — зачем-то вспоминает Авагди.
— О да… Ты был человеком, стволом, у тебя были Три слова, был лучший друг, была жена, был сын. Но уже властвовал над Колптой Высший Разум, и Корни ослабли, и второй сын родился мёртвым, а третий забрал с собой во тьму свою мать. А потом было восстание, и глеурдины пришли подавить его, и убили твоего старшего, который должен был стать стволом, — и пресёкся тысячелетний род Фадори. Отмер его ствол. И ствол Эагана, и все мы, все стволы отмерли — кроме одного, которого мы прокляли за это… Ты помнишь? Говори! Помнишь?
«Помню», — Авагди закрывает глаза и сжимает кулаки.
— И мы, лишённые сыновей, назвавшись Отмершими, отправились тогда в это роковое путешествие в поисках вечной жизни и утерянных Трёх слов. И только восьмерым было суждено обрести бессмертие. Но это оказалась — какая жалость! — не вечная жизнь, а вечный ад. — Призраки смеются, и от этого плечи Авагди нервно вздрагивают. — Это мы, те, кого вы убили, стали для вас вечным адом! И поверь, брат: сколько бы ни пытался, ты не сможешь умереть, пока не отпустишь нас!
«Это вы не отпускаете меня!»
— А ты дай нам выйти вперёд! Сейчас Красный год, самое время… Дай нам сгноить Корни и разрушить куб! Только тогда развалятся стены нашей темницы, и только тогда мы сможем уйти!
«Конец света за вашу свободу?»
— За нашу — и твою. Решай теперь — чему свершиться?
«Человек ни за что не согласился бы…»
— Ты девять с половиной веков назад перестал быть человеком. Решай, ну!
Тогда Авагди сдаётся. Слишком нестерпима жизнь в аду, слишком желанна свобода.
«Да, я не человек. Берите меня, делайте что хотите».
В то же мгновение взор его проясняется, и над колонией рабов раздаётся крик:
— Слушайте меня, граурхены, вышедшие из Корней! — эти слова вырываются из горла Авагди, но это не его голос. И «черти» не могут узнать, не могут понять, кто кричал, и рыскают глазами по одинаковым серым лицам.
— По душе вам, братья, что Дикий Народ нас, граурхенов, подводит к виселице? По душе, что варвары вытирают об нас ноги? Что истязают, ломают, удобрением называют нас Отмершие во главе с Тэаталом? Дрожать каждый день: а вдруг сегодня меня выберут? По душе?
— Молчать! — орёт главный надсмотрщик, но крик его смешон и жалок.
— Что же, и дальше будем позволять безнаказанно мучить нас? Гнить будем дальше и ничего не сделаем?! Или разозлимся и восстанем? Или зверю в себе дадим почуять запах воли нашей и крови угнетающих нас?
Рабы переглядываются и перешёптываются. Кто-то испуганно, косясь на грозных наёмников с копьями, а кто-то — с одобрением. Наёмники вклиниваются в толпу рабов, ища неуловимого подстрекателя, но голос последнего звучит уже как будто отовсюду. Не голос даже — голоса.
— Мы в цепях, но что нам цепи? Они не мешают работать — станут ли мешать убивать и идти к свободе?
Влекомый чужой волей, Авагди рвётся сквозь ряды, сам бросается навстречу наёмникам-варварам, хватает крепкое древко копья — и вот уже копьё предаёт прежнего хозяина, вот уже мёртв «чёрт», и второй тоже мёртв. Что-то холодное и неприятное шевелится в груди, но Отмерший выдёргивает нож из своего тела и от всей души, чёрной и не ему уже принадлежащей, возвращает долг тому, кто ударил.
— Чуете? — хрипят изо всех сил те, кто говорит за него. — Чуете первый запах расплаты?
И снова кто-то падает под ударом копья.
— Довольно мы терпели, братья! Довольно сидели в этом гнилом болоте! Наше время пришло, наша очередь… Идём, братья, и возьмём что нам причитается! Возьмём! А кто встанет на пути — убьём! Пусть, пусть заплатит жизнью! Мы платили большим!
Волнуется серое море рабов, гремят цепи. Где-то рядом свирепо кричат и мучительно стонут, перед глазами мелькают красные пятна.
«Они мне верят, — мелькает у Авагди последняя человеческая мысль. — Верят, что наступит лучшая жизнь. И не знают, что все скоро умрут…»
— Скажи нам, братец: зачем им это знать?
Сообщение отредактировал Ленарт - Пятница, 19.06.2015, 14:30 |
| |
| |
| Maniaka | Дата: Вторник, 18.08.2015, 18:45 | Сообщение # 73 |
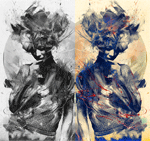 Лазуритовое перо
Группа: Авторы
Сообщений: 771
| Ленуль, а здесь продолжение будет?
|
| |
| |
| Ленарт | Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:31 | Сообщение # 74 |
 Стеклянное перо
Группа: Авторы
Сообщений: 77
| Маша, будет  просто у меня очень длинные выкладки подряд не получается делать. Форум не позволяет((( надо только после чьего-нибудь сообщения. просто у меня очень длинные выкладки подряд не получается делать. Форум не позволяет((( надо только после чьего-нибудь сообщения.
Вот сейчас попробую выложить.Добавлено (18.08.2015, 19:28)
---------------------------------------------
Часть третья
Летучая мышь
Глава 11,
о том, что бывает, если не вовремя вернуться назад, в которой Высший Разум вступает в схватку со Скорпионом.
Скорпион
Благородный Койнен, наместник в Килиддоне, был статным мужчиной лет сорока, со смуглым строгим лицом и каким-то сухим, недвижным взглядом. Как узнал я от всеведущего Диана, этот «выдающийся» человек провёл юность в Оттне, где получил блестящее образование, нахватался столичных манер и превратился в убеждённого сторонника, даже почитателя всего глеурдинского. В этом он не отставал от самого короля, который, по словам некоторых известных деятелей, больше уже походил на удаурна, нежели на колптинца. По окончании обучения Койнен занимал какой-то не очень видный, но и не так чтоб совсем скромный, пост, а через несколько лет, проявив на службе незаурядный ум и развитость, выхлопотал себе роль наместника в родном своём городе. В Килиддоне, почти так же, как и Данланг, отдалённом от центральных районов страны, новому правителю с его «северными» наклонностями поначалу дивились, но со временем привыкли и решили, что так даже лучше, чем прежде. Столица есть столица.
В том, что рассказал Диан, я имел честь убедиться лично, когда, отвергнутый в Данланге благородным Дилом и собственной матерью, повёл Грозу Бизонов и его народ в Килиддон. Четыре дня пути на восток – и вот мы на месте, и посланный наместником воин протягивает мне доску, лист бумаги и – удивительное дело! – самопишущее перо, прибавив бесцветно и отрывисто: «Изложите ваши пожелания здесь. Благородный Койнен прочтёт». Доводы мои касательно помощи Дикому Народу – я постарался объяснить суть дела как можно яснее и логичнее – пришлись наместнику по душе, видимо, потому что основывались на принципах Высшего Разума, и все мы вздохнули с облегчением. Конечно, за надёжное укрытие крепостных стен дикарей не пустили, а всего лишь позволили разбить лагерь рядом, к северу от Килиддона, но Грозе Бизонов и его людям большего на первое время и не требовалось. Что до нас с Дианом – нам была оказана особая честь поселиться в пределах города. А главное, во всяком случае, для меня – не пролилось ни капли крови.
О да, благородный Койнен, воспитывавшийся в Оттне, – это не моя мама, отмахнувшаяся от разумных доводов из ненависти к убийцам мужа и сына. Из этой глупой, пустой эмоции под названием ненависть… Любопытно, насколько серьёзно нужно преступить заповеди Высшего Разума, чтобы почувствовать на себе его власть? Ведь говорят, сильные отклонения от норм даром не проходят. Говорят, происходит что-то такое особенное у провинившегося в голове, в сознании – или, может быть, глубже…
Впрочем, ведь глеурдинская сеть сейчас не работает.
В последующие пару дней Диан имел удовольствие лично ознакомиться со всеми «чудесами» славного города Килиддона. То есть с теми достижениями Высшего Разума, коими глеурдины щедро поделились с королём и жителями столицы, а те в свою очередь – с Койненом и килиддонцами. Меня же эти «чудеса» вроде тикающих часов или странных светильников, называемых фонарями, нисколько не впечатлили. Напротив, показались совершенно нелепыми, не вписывающимися в общую картину города и вообще Золотой Колпты. Не нашими – и всё. Странно… этих мыслей не было, когда я чуть ли не с открытым ртом глазел на судно воздушного конвоя. Может, всему виной моё дурное настроение, которое с каждым днём всё хуже?
Вот разве что подземная система укреплений и тоннелей самую малость меня заинтересовала. Наместник Койнен, который, оказывается, неплохо знал Дианова отца и потому доверял нам, рассказал о том, что под мостовой скрывается так сказать второй уровень города, только никем не заселённый. Всё пространство под Килиддоном изрыто было ходами и лазами, но лишь один из них был безопасен и на самом деле служил выходом из города за крепостные стены. Ну, или наоборот – входом. Остальные же представляли собой сложнейший лабиринт с ловушками для непрошеных гостей. Однако всю эту систему вполне можно было придумать и без глеурдинов – умный и хитрый наместник, думаю, замечательно справился сам, и ничего тут удивительного нет.
Так или иначе, в эти дни меня одолело какое-то серое равнодушие ко всему происходящему вокруг. Я был не здесь, не в Килиддоне, не с этими людьми, и основным моим занятием было сидение на крепостной стене и бессмысленное созерцание дали. Иногда, правда, спускался, бродил с Дианом по улицам; друг то и дело дёргал за рукав, тормошил, укорял в рассеянности. Кстати, в подземелья я с ним так и не спустился.
Через два дня Диан не вытерпел.
Был вечер, расцвеченный кармином и охрой, унылый и сонный вечер, хоть и суетились где-то внизу, на площади, какие-то люди – по инициативе наместника с первого дня Красного года на закате проводились военные учения. Слышались голоса, бряцанье оружия, скрип телег, цокот подков; солдаты-килиддонцы на галерее изредка перебрасывались короткими фразами и поглядывали на меня, скучающего, прислонившегося грудью к зубцу ограждения. Успокаивающе шелестели кроны деревьев, на равнине разгулялся ветер, в исполосованном рыжими облаками небе парил коршун.
Диан подошёл и крепко стиснул моё плечо. Я вздрогнул, но поспешил скрыть это.
– Ну, что сегодня нового видел? Впрочем, постой, не отвечай. Смотри-ка, – указал другу на тёмный силуэт парящей птицы, – как кружит… точно углядел кого. Я всё наблюдал за ним сейчас. Всё жду, когда же… а он тянет, проклятый, играет, как будто…
– Сиге, так больше не может продолжаться, – перебил вдруг Диан, по-прежнему стоя у меня за спиной.
Всё, решился.
– Как – так?
– Ты себе места не находишь. Изводишь себя. Бродишь, как мертвец… даже хуже – как приговорённый к смерти. Отрешённый, как будто от всего мира отторгнутый.
– Глупости, – мрачно усмехнулся я. – Просто устал, а у тебя, дружище, разыгралось воображение.
– Ага, будто я не вижу. – Он встал сбоку, облокотившись о парапет, и стоило больших усилий притвориться, что не чувствую на лице его пытливого взгляда. – Будто не понимаю, что тебя гложет вся эта история с леди Бардой, в которой ты не виноват, да ещё воображаемое проклятие, которое ты не понять зачем выдумал. Слушай, Сиге: хватит самого себя грызть! И чем каждый вечер вздыхать, на запад глядя, лучше… лучше езжай ты к ней уже, а!
– К кому? К леди Барде? – спросил совершенно безучастно.
– К матери езжай! – впервые я видел его таким напористым. Казалось, ещё немного – и настучит мне по голове.
– Не кричи так. Люди вокруг.
– Попробуй с тобой не покричи, – буркнул Диан, но всё же смутился и поубавил пыл. – Мучаешься ведь, что леди Овейна тебе написала… такое. Я вижу: ты жить без её прощения не сможешь.
Сердце пропустило несколько ударов и больно сжалось.
– Смогу. Отстань.
– Спокойно – не сможешь. Я… я тебя прошу, Сиге: давай с тобой завтра же оседлаем двух коней порезвее – и обратно в Данланг. Давай, а? Она тебя простит, вот увидишь.
– Я изгнан, забыл?
– И Дил простит! Добряк ведь… Он просто с горя так решил, едва в предсмертной записке твоё имя увидел и эти слова: «я вас прощаю». Ясно же! Держу пари, он даже подробностей не знает. О том, что ты тогда с леди Бардой на крыше был.
– Диан! – я наконец-то обернулся к нему, посмотрел в глаза. Он почему-то отшатнулся. – Мы же с детства лучшие друзья, ведь ты же всегда мне верил! Почему не веришь теперь? Мало что ли я тебе рассказал? Нельзя мне к матери! Нельзя! Да и с тобой… и от тебя следовало бы держаться подальше.
Он посмотрел на меня так, как будто я несправедливо обвинил его в предательстве. Своими невинными, честными глазами, в которых застыла чуть ли не детская обида.
– Я верю тебе. Во всадника верю, в голос этот проклятый – тоже. Может, и правда, над тобой навис злой рок. Но в то, что ты у стен Данланга говорил в бреду, – в это не верю. Это ты сам на себя наговорил. Из-за какой-то жалкой книжной статьи о своих скорпионах решил почему-то, будто ты чудовище, которое не может не убивать. Сиге, твоего отца и брата убили дикари; Лорн погиб, защищая сына; леди Барда не вынесла того, что ты её бросил. Знаешь, со сколькими людьми это случается? С чего ты взял, что правильно своё проклятие истолковал?
– А как ещё его истолковать? – я почему-то начинал злиться.
– Может, оно просто обрекает всех твоих близких на страдания. Само по себе, понимаешь? А ты ни при чём. Может, тебе наоборот сейчас надо сломя голову нестись к матери, к Монхе…
– «И принесёт он много беды и горя…» Помнишь?
– Это единственная фраза, которую тебе удалось разобрать. А что было сказано до неё?
Я отвернулся. Сам отдал был полжизни, чтобы узнать, что ещё говорил мой всадник с собачьей головой и что это значило. Или даже всю свою жизнь.
– Молчишь… Знаешь, один мой знакомый доктор говорит, что нет ничего хуже, чем когда больной сам себе выносит приговор и сам себя от мнимой болезни лечит. Вот и ты тоже… долечишься!
– Диан, хватит, пожалуйста.
– Леди Барда умерла, когда тебя не было рядом…
– Хватит! Не упоминай о ней!
– …и сейчас леди Овейна в Данланге, далеко от тебя, единственного, на кого она может полностью положиться, когда нет с ней ни Кайера, ни Рудрайга, ни вашего отца.
Я проклинал Диана в тот миг: знал или нет, но он всё-таки ударил по самому больному. Я и без него сходил с ума от тревоги за мать и за Монху, потому что понятия не имел, что творится теперь в заражённом «красной чумой» Данланге, а прогнать леденящие кровь предположения не мог. Предположения эти были одно ужаснее другого, и хотелось лететь к ним – да, сломя голову, как выразился Диан. Не для того в первую очередь, чтобы молить маму о прощении. О нет – чтобы остановить каждого, кто посмеет поднять на неё руку.
Но вдруг беда опять увяжется за мной? Вдруг снова придется примерить эту маску смерти, под которой уже не хватает воздуха?
Высший Разум, я готов на всё, лишь бы убедиться, что с ними сейчас всё в порядке!
Тут словно раскалённый металлический обруч сдавил мне лоб и виски, в глазах потемнело…
– Сиге, ты чего? Ты побледнел весь… Ты меня слушаешь?
– Слушаю, – выдавил я хрипло, дёргая ворот рубашки – он показался вдруг слишком тесным.
– Не забывай, что сейчас Красный год, – тихо напомнил Диан.
– Прекрати, – я сжал голову ладонями и крепко зажмурился. – И без тебя знаю.
Что это было?
Снова то самое, чёрное и ядовитое, отобравшее жизнь несчастного Лорна? Нет, совсем не похоже…
– А раз знаешь, сам рассуди: кто защитит мать лучше сына?
Мы долго молчали, глядя друг на друга. Не помню, рассказывал ли: в детстве мы нередко так забавлялись – садились один напротив другого, подавались вперёд, так что чуть не сталкивались носами, и смотрели – глаза в глаза, пока кто-нибудь не сдастся. Толкались, нарочно смеялись, чтоб «сбить противника». А потом снова смеялись, обвиняя друг друга в «вероломстве». Да, тогда было смешно и нелепо. Теперь – нет. Он смотрел серьёзно и… с каким-то пугающим состраданием.
Наконец я сдался – первым.
– Хорошо. Завтра… поедем.
Диан мгновенно просветлел в лице, схватил меня за плечи, чуть ли не расцеловать в обе щеки собирался – за то, что сам же старался, успокаивал, убеждал, как настоящий друг, этакую тварь – меня то есть. А я никак не мог понять, злюсь я на него – или благодарен до невозможности.
Наверное, всё же и то и другое.
– Кстати, я сегодня за городом был, – сообщил Диан. – Волчьего Клыка видел. Говорит: сын коменданта спас меня и мою сестру – теперь наши жизни ему принадлежат. Если вдруг поедет куда – мы за ним, служить будем. Так и сказал.
– Вот ещё! – фыркнул я. – Не нужно мне ничьих жизней в собственность. Не для того их из подвала вытаскивал. Вдвоём с тобой, между прочим.
– Так он ведь не отступится. У Дикого Народа, как я понял, такой обычай – если кто-то кому-то спас жизнь, второй не успокоится, пока не сослужит первому службу. Это у них, кажется, называется законом крови. Дело чести – переводя на наш язык.
Я устало пожал плечами. Спорить и протестовать уже совсем не хотелось.
– Увяжутся – их дело.
Когда уже опустилась на равнину вечерняя мгла и мы возвращались по освещённым фонарями улицам в трактир, где эти два дня ночевали, Диан вдруг остановил меня, стиснув локоть.
– Что? – обернулся я к нему.
Друг улыбнулся – открыто, по-мальчишески, как обычно.
– Я знал: ты не трус. И не станешь просто прятаться.
Уезжали мы четверо – Диан, Волчий Клык, Кошачий Коготь и я – из города, готовящегося к битве: в ночь, предшествующую нашему отъезду, примчался к наместнику разведчик с неприятным донесением – у стен соседней Крепости Тигра, комендант которой в последнюю Белую эпоху находился не в лучших отношениях с благородным Койненом, собирается войско. Наместник не повёл и бровью, как говорили потом (не знаю, правда, кто и откуда узнал), словно лицо его выбито было из холодного камня. Но на словах не скрывал, что поездка наша в Данланг придётся очень кстати.
– Дил – мой старинный друг, – ровным голосом говорил Койнен на прощание. – Передайте ему, что, если он сможет снарядить отряд нам в помощь, килиддонцы не останутся в долгу. Понимаю, – продолжал он, будто бы рассуждая сам с собой вслух, – каждый наместник сейчас в первую очередь беспокоится о своём городе, и это справедливо, но всё же у Данланга нет, как я полагаю, опасных соседей – так что смею надеяться, Дил откликнется. Кстати, вот и просьба в письменном виде.
На случай, если к нашему возвращению, город будет уже окружён, благородный Койнен дал мне карту с изображением Килиддонского подземного лабиринта. На неё были нанесены все ходы, разобраться в которых мне с первого взгляда представилось абсолютно невозможным. Возле каждого входа и выхода стояла определённая цифра, возле каждой развилки – две или три, в зависимости от того, на сколько веток делился в этом месте тоннель. Больше никаких условных знаков, никаких указаний, никаких предупреждений о ловушках – ничего. Благополучно пробраться в крепость мог лишь тот, кто знал, в какой из десяти люков лезть и где куда повернуть. Тот, кто держал в голове правильную последовательность цифр.
– 8439615142, – отчеканил наместник, водя пальцем по карте в моих руках. Повторил медленнее: – 8439615142.
Я запомнил.
Высший Разум, зачем я запомнил?..
Темно. И только изредка в обнимающей мир черноте мелькают зловещие искры цвета ржавчины. Холодное прикосновение чего-то мокрого на моём лице и руках. И ещё нечто, неприятно щекочущее висок. Смутные шорохи пробиваются сквозь плотную, будто войлочную завесу всё нарастающего гула…
Темнота и холод – это снаружи, а внутри – жидкий огонь, струящийся по жилам вместо крови, собирающийся к сердцу и в конце концов застревающий в черепе в виде пылающего шара. Это я почему-то чувствовал очень ясно, хоть и не понимал толком, где кончается «снаружи» и начинается «внутри».
«Что произошло?» – просочилась в раскалённое как на сковороде сознание первая оформленная мысль.
Не сразу я понял, что лежу с закрытыми глазами на холодном каменном полу, на лицо мне капает с потолка, на виске кровь – очевидно, моя, а огненный шар, что сгустился в голове – это всего лишь боль. Острая боль, скрутившаяся в узел, едва попытался повернуть шею и разлепить веки. Нет, с веками пока повременим…
Я осторожно пошевелил одной ногой, потом другой – узел неохотно распался, и боль снова разлилась по всему телу.
Как же это меня угораздило?
Понемногу сквозь муть, темноту и ржавчину проступали обрывки воспоминаний…
Мы добрались до места за два дня, и Данланг вновь поразил меня новым лицом, ещё более мрачным, чем прежде. Тёмно-серая, почти чёрная в свете заходящего солнца громадина посреди пустынной равнины – безмолвный, мёртвый камень. И небо над ним – ржавое, как кружащиеся под веками разводы.
Нас пропустили в город без лишних вопросов. Я и тогда заметил, что вышло как-то слишком просто, слишком подозрительно – но отмахнулся. Дурак! Забыл, что предчувствия в последнее время не подводили, не обманывали меня…
К сожалению, не обманывали.
Помню, как заскрипели, медленно расходясь в стороны, створки ворот, как простучали по мостовой подкованные железом сапоги солдат и как один из этих солдат осклабился в ответ на моё решительное: «Мы должны видеть наместника Дила». Потом помню – схватка, крики, боль… Но смутно. А дальше и вовсе ничего не могу припомнить. Кажется, меня ударили по голове, хотя, судя по теперешнему состоянию – не только.
«Я изгнан, – мелькнула ещё одна мысль. – Да, изгнан – и по-хорошему не имел права возвращаться. Но зачем тогда пустили? Зачем я им понадобился? И где Диан?»
Поблизости что-то пискнуло, и стал окончательно ясен источник посторонних шорохов. Можно было и раньше догадаться. Я повернулся на бок, чтобы холодные капли с низкого потолка перестали клевать по лицу, упёрся рукой в шершавый пол и наконец-то открыл глаза. Взгляд тут же уткнулся в узкую дверь с маленьким зарешёченным окошком, через которое в темницу лился дрожащий жёлтый свет. С той стороны, кажется, кто-то был: светлое пятно то и дело перекрывали грузные, как тучи, тени.
Мои тюремщики.
Когда я уже до того пришёл в себя, что смог сесть и прислониться спиной к стене, один из них, здоровый, бородатый и нечёсаный, с руками кузнеца и физиономией мясника, объявился на пороге, сопровождаемый оглушительным лязгом дверных петель и бессвязным ворчанием товарищей. Я тут же выпрямился, вздёрнул подбородок и спросил требовательно, стараясь придать голосу побольше высокомерия:
– Отвечай: где мои друзья?
Мясник прикрыл за собой дверь и, издав неопределённый звук, подбоченился.
– Ишь ты какой! – возмутился он, но не очень-то уверенно: было видно, что поведение моё заставило его изрядно стушеваться. Всё-таки сословное неравенство – страшная сила. – Пленник, в темнице сидишь, побитый весь – и вопросы задаёшь! Вот все вы такие, благородные… Да знать я не знаю, куда друзей ваших дели! – развёл он ручищами, внезапно переходя на «вы». – Вас только одного солдаты притащили. Остальных не видел.
– Сколько я лежал без сознания?
– Всю ночь да ещё полдня так и провалялись!
– А ты не скалься! Пошли кого-нибудь за наместником Дилом, у меня к нему послание от…
Я не договорил и, чувствуя, как червячок тревоги заползает в сердце, стал поспешно ощупывать карманы. Чёрт, пусто! Ни письма от Койнена Дилу, ни карты.
Тюремщик невесело хохотнул.
– Нет у нас больше наместника Дила. Так что вы, господин пленник, не суетитесь.
– Как?! – я похолодел. – Он… умер? А что же…
– Живёхонек! Только вот тоже за решёточкой. Не знали разве? Переворот у нас случился – несколько дней уже как под новой властью ходим. – Он прицокнул языком. – Красный год, однако.
– А что с его родственницей? С леди Овейной?
– Не слыхал о такой, – тюремщик нахмурился, потёр лоб и растянул губы в скабрёзной ухмылке. – Наверно, и эту – в темницу.
Я бросил на него тяжёлый взгляд. Голодранец сопливый! Показал бы я ему, как называть мою мать «этой»… Но сейчас, кажется, не время.
– Так кто же теперь наместник? – спросил как можно спокойнее. – Хоть что-то ты знаешь?
– Известно кто, – тут же подхватил тюремщик. – Благородный Сохт из ветви… э-э-э… Йона Медного. Вот так-то.
Я оживился. Ветвь Йона Медного – род, к которому принадлежит матушка Диана. А Сохт… несколько раз слышал это имя от друга, и, если правильно помню, они не самые дальние родственники. Правда, Диан отзывался о троюродном или четвероюродном брате отнюдь не лучшим образом, даже называл того, краснея и смущаясь своих же слов, «не очень хорошим человеком». Это Диан-то! Непридирчивый и всепрощающий. Кто для него «не очень хороший», тот для остальных… ну, в общем человек, которого следует опасаться, когда заканчивается Белая эпоха.
И всё же настроение моё приподнялось. Каким бы подлецом ни оказался наместник Сохт, родственника он не тронет, а значит, за Диана можно быть спокойным.
Но если этот узурпатор тронул мою мать…
– Я хочу видеть нового наместника. Передайте ему это.
Мясник потоптался на пороге, не торопясь уходить (кажется, ему очень хотелось сказать мне что-нибудь грубое, чтобы напомнить, кто тут пленник, а кто тюремщик), потом всё-таки неуклюже повернулся ко мне как-то боком и собирался уже толкнуть дверь, но тут в зарешёченном окошке показалось чьё-то лицо. А в следующее мгновение дверь распахнулась, и в светлом проёме появился невысокий и хлипкий с виду юноша с острыми чертами, твёрдым ртом и маленькими глазами, пронзительно глядящими из-под сросшихся над переносицей бровей. По тому, как решительно он вошёл и как насмешливо приподнял уголок губ, я понял, что передо мной самопровозглашённый глава Данланга собственной персоной, несмотря на то, что мог бы дать ему от силы лет двадцать. Во всяком случае, он уж точно не старше меня.
– В этом уже нет необходимости, благородный Сиге, – произнёс вошедший в великосветской манере, подтверждая мою догадку. – Не скрою, что и сам горю желанием с вами побеседовать.
– Вот как? В таком случае, боюсь, что не понимаю вас, – в тон ему отозвался я. – Кажется, оказав мне и моим спутникам такой радушный приём, вы несколько отдалили нашу столь желанную для вас беседу.
Сохт сухо рассмеялся и небрежным жестом велел тюремщику убираться прочь. Тот покорно вышел, однако дверь осталась приоткрытой, и я отметил, что за ней происходила какая-то шумная возня.
– О нет, я оказался только в выигрыше, благородный Сиге. Только в выигрыше – и за это не жалко заплатить быстротечным временем. Видите ли: захоти я принять вас в своих покоях, наш разговор проходил бы совсем не в том русле, в каком мне удобно. А здесь… здесь я в полной мере могу проявить мою власть над вами.
Я сжал зубы, чтобы не зарычать от злости. Сохт смотрел, издеваясь и явно получая от этого удовольствие, но рука его недвусмысленно покоилась на рукояти кинжала, спрятавшегося до поры до времени в ножнах на поясе. Из коридора слышались гулкие шаги, приглушённые голоса, скрежет.
– Где моя мать? – я решил, что шутки кончились.
– Леди Овейна? Не торопитесь, всё узнаете. В своё время.
Я поднялся на ноги, изо всех сил стараясь не шататься и не выказать ничем своей слабости. Колючие глаза нового наместника, готов спорить, только этого и ждали.
– Нет, я узнаю сейчас! Где моя мать?
Лицо Сохта вдруг стало жёстким и злым, взгляд – как лёд.
– Она за дверью, – он сказал это тихо, но так, что я, вместо облегчения, почувствовал неприятный ком, перехвативший горло и тяжело упавший куда-то в живот, – и весь покрылся холодным потом. Что-то подсказывало, что лучше бы маме быть сейчас где-нибудь подальше от моей темницы. Почему?..
Пока я размышлял, Сохт отошёл в тёмный угол, хладнокровно пнув острым носком сапога притаившуюся там крысу; крыса с мерзким писком смылась, юркнула в какую-то дыру, а наместник замер в победоносной позе, со скрещенными на груди руками. В темницу меж тем протиснулись двое верзил с дубинками и ещё один – со свёрнутым в рулон ковром, сплетённым из тростниковых прутьев. Давешнего всезнающего моего посетителя среди этой троицы не было, и я почти что расстроился, не видя знакомого лица, но вспомнил его ручищи с толстыми обожженными пальцами и устрашающую физиономию… Да, этому мяснику вполне подошла бы роль палача.
Хотя нужно отдать должное и троим вошедшим: они своему собрату ничем не уступали.
– Я хочу знать, – донёсся из угла бесчувственный голос наместника Сохта, словно тот был вставшим из могилы призраком, – какая последовательность цифр позволит моему отряду беспрепятственно проникнуть в Килиддон.
Да, Сиге, этого следовало ожидать. И теперь даже смешно немного – только это нездоровый, воспалённый какой-то смех.
Почему-то снова вспомнился всадник с собачьей мордой.
– Не понимаю, о каких таких цифрах вы говорите, – небрежно обронил я, глядя в мрачное лицо Сохта, наполовину скрытое тенью.
– Ну, как же не понимаете… Ведь мы нашли в ваших карманах карту подземного лабиринта. Не мог же благородный Койнен дать её вам, не поделившись ключом – это было бы бессмысленно, но согласитесь, благороднейший Сиге: наместник Килиддона далеко не тот, кто станет совершать бессмысленные жесты.
Голос его снова стал мягким и вкрадчивым, как поступь кошки, вышедшей на охоту, и меня это взбесило. Мне хотелось, чтобы он злился больше меня, чтобы, не владея собой, дрожал от гнева, чтобы не сдерживал ненависти…
Разве я не достоин ненависти?
Скорпион – это не какая-нибудь жалкая крыса. На него не кошка нужна…
– Вот именно. Койнен более чем благоразумен и не стал бы давать карту и ключ от неё человеку, которого не знает достаточно, чтобы безоговорочно доверять. Знаете, мне никто не может доверять – даже я сам. Так что… никакой карты у меня быть не могло.
Я усмехнулся кошке в лицо.
Ты знаешь, что я лгу, узурпатор. Только вот что ты будешь делать с этим знанием?
– Вы хотите, чтобы я выразился яснее? – прозвучало угрозой из тёмного угла.
Как же скучно… Я окинул взглядом троицу верзил с ковром и дубинами и снова выдавил кривоватую усмешку – маленькая подачка всё тому же нездоровому смеху, рвущемуся из груди.
– Да. Выражайтесь яснее, – сказал, снова глядя на Сохта.
– Ну что ж… вы захотели сами.
Когда меня закатали в ковёр и наградили первым ударом дубины, я всё-таки засмеялся, сухо, зло и… мстительно. Да – мстительно. И, закрывая глаза, вызывал в мыслях своего безликого врага, чтобы плюнуть в его несуществующее лицо:
«Плохо ты на этот раз всё рассчитал. В Килиддон меня отвёл, в город пустил, карту в руки всучил, секретный код устами благородного Койнена в память мне вложил – и именно мне ведь, а не Диану. А потом карту отнял, в темницу к врагу бросил, троих верзил и ковёр с дубинами послал. Давай, мол, Скорпион, твоя очередь выступить вперёд! Только десять цифр назвать осталось. Только предать Килиддон – и тысячи людей в придачу предать…
А я всё равно не дамся тебе. Всё равно не предам. Не «принесу беду и горе». Умру – а не принесу. Думаешь, я боли испугаюсь? Не переборю тварь с клешнями и жалом, что внутри меня сидит? Думаешь, не выдержу?
Выдержу».
Тогда я, глупый задира, не подумал, что не зря моё проклятие прячется за собачьей мордой: как и всякая собака, оно не любит, когда его дразнят…
Добавлено (18.08.2015, 19:31)
---------------------------------------------
Я смог приподняться, опереться на локоть и взглянуть снизу вверх на подошедшего ко мне наместника далеко не сразу – но смог. Перед глазами всё плыло, лицо – я чувствовал – нервно дёргалось, а от ковра, оставшегося лежать подо мной, пахло болью – если только боль имеет запах, и его прикосновение жгло кожу. И всё же я праздновал маленькую победу – почти праздновал. Каким бы могуществом ни обладал тот, чей голос я впервые услышал, уезжая из Данланга навстречу Холодной Выдре, даже он не смог превратить меня в низкого труса и оставил одно, то, о чём, может быть, и не имел толком представления, – мою честь.
И всегда, всегда будет что-то, что останется только моим – и ничьим больше.
Глаза наместника Сохта хищно блестели из-под сдвинутых бровей, и в который раз за прошедшие дни пришла мысль: откуда это всё? Звериная злоба, хаос, льющаяся кровь, лютая ненависть. Откуда? Из каких глубин? Ведь… «Не паникуй, это ещё не конец света», – сказал наместник Дил в моей памяти.
Это – раньше. Восемнадцать лет назад и много раз до того. А теперь – похоже на начало конца.
Почему?
Наместники городов и коменданты крепостей, ополчившиеся друг на друга, готовые развязать гражданскую войну из одной лишь алчности. Теперь вот – этот юнец с горящим взором, пристрастившийся к пыткам и словно питающийся чужими страданиями. Как будто иной пищи ему и не нужно, как будто не может жить иначе, хотя прожил ведь преспокойно два десятка лет – и ничего.
«Волки дикие, стервятники, шакалы, змеи…» Кто это говорил?
Зелёные глаза в окне, а в глазах – отблеск маленького лезвия…
Сохт сделал ещё один шаг ко мне и сунул мне в живот носком сапога – тем самым, который давеча настиг несчастную крысу.
– Ну, так что, хорошо подумали?
– Оттого, что вы будете так грозно смотреть, я не стану сговорчивей.
– Повторяю: вы хорошо подумали?
– Это я вам повторяю: ничего вы от меня не дождётесь.
Сохт с деланным сожалением развёл руками и вздохнул.
– Тогда я вынужден пойти на крайние меры. Что ж, зато проверим, могут ли гордиться вами наши славные друзья, учёные из Глеурда… – с этими словами наместник подал знак троице палачей, скромно переводящих дух в сторонке, и двое из них вышли. – Вы, благородный Сиге, не хотите поприветствовать мать стоя?
Я вздрогнул и от охватившего меня ужаса действительно подскочил, почти не чувствуя боли, но предательски дрожащие ноги не держали отяжелевшее от пыток, налившееся напряжением тело. Сохт рассмеялся, протянул руку.
– Я вам помогу…
– Идите к чёрту! – не удержался я и, оттолкнув его, остался на коленях.
Маму ввели в темницу со связанными впереди руками. Она ступала величественно, распрямив плечи и высоко держа гордую голову, как истинная аристократка, рядом с которой остальные – чернь. Она вошла не как пленница – как госпожа…
Она была простоволосая и босая. С осунувшимся, потемневшим от пыли лицом, с браслетами растёртой до крови кожи вокруг ног, в каком-то грубом грязном рубище… Она, та, что могла бы стоять рядом с королевой и не стыдиться себя.
Злые слёзы готовы были задушить меня.
Мама в мою сторону почему-то не смотрела. Взгляд её был направлен прямо перед собой, но в какой-то момент быстро метнулся к наместнику Сохту, обдал его ледяным огнём и, изобразив крайнюю степень презрения, вновь устремился вперёд. За плечом матери между тем маячила серая рожа тюремщика, ещё один протиснулся в дверь следом. Этот последний катил за собой какое-то приспособление, отдалённо напоминающее пару больших железных сапог, укреплённых горизонтально на металлической основе. Из основы торчали вверх две высоких толстых жерди, соединённые перекладиной, и длинный деревянный рычаг.
Я проглотил противную, смешанную с кровью слюну. Внутри всё скрутилось в тугой жгут – слишком хорошо представилось, для чего можно использовать это зловещее орудие.
Где Данлангский изверг достал… такое?
– Так вы не поменяли своего решения? – обратился ко мне ничуть не смутившийся под взглядом пленницы наместник Сохт.
Мне захотелось его убить. И себя – вместе с ним заодно.
Где-то я слышал, что от выбора бежит только трус – не верьте, это неправда. Не всегда.
– В роду Регаста Курчавого никогда не было предателей. Ваш вопрос попросту глуп.
Это сказал не я.
От этого сухого, усталого, но твёрдого, как кремень, голоса мы с наместником одновременно вздрогнули (его замешательство я отметил с особым удовольствием). Глаза матери меж створками опухших век были воспалёнными, подёрнутыми мутной поволокой. И они наконец-то смотрели прямо на меня. И в них было совершеннейшее, абсолютнейшее спокойствие. Уверенность…
За что ты спокойна, мама? За кого? И в ком так уверена?
В какой-то момент показалось – от матери ко мне, из глаз в глаза тянется тонкая невидимая нить, и по нити этой ползут, скользят, бегут беззвучные, никем не произнесённые, но слышимые каждому слова. Просачиваются в сознание и сквозь сознание, оседают звенящей пылью где-то под черепом, складываются в стройные, чёткие фразы – простые смертные так говорить не могут – сплетаются между собой в серебристую паутину…
«Паутина… Сеть», – подумалось вдруг.
Слова проявлялись, словно кто-то выжигал их на моём сердце… или в моей голове.
«Один никогда не может быть равно десяти тысячам. Один – это всегда намного меньше».
Но ведь она моя мать! Родная, та, что выносила, родила, воспитала, дарила тепло…
Словно горячая ладонь незримого, бессменного надзирателя ударила по лицу наотмашь. «Необъяснимые волнения, возникающие в груди слабого и называемые порой чувствами, не приносят пользы – один лишь вред, ибо всё необъяснимое ложно».
– Сиге, не советую испытывать моё терпение! – повысил голос наместник Сохт. – Говорите цифры – иначе…
«Уничтожь их в себе и стань сильным».
Я стиснул зубы, пытаясь прогнать ноющую боль, засевшую тупой иглой в груди.
– Клянусь, ты за всё ещё ответишь.
В ответ на это наместник только усмехнулся и махнул тюремщикам рукой. Снова заскрежетало зловещее орудие пытки. Резко толкнулось в тесной своей клетушке сердце, страх ударил в него, и игла разлетелась на тысячу осколков, вонзившихся тут же в каждую частичку избитого тела.
– Нет! – я рванулся было вперёд – не знаю, правда, чего хотел – но вдруг перехватило дыхание, пробка шершавого горячего воздуха встала в гортани, и меня согнуло пополам, как будто от сильного удара под дых.
На ещё один краткий миг всё вокруг замерло. Сохт издевательски приподнял бровь.
– Нет? Стало быть, готовы назвать правильный код?
Я молчал, сжав зубы и силясь незаметно глотнуть ртом воздух. Что это опять? Когда-то уже было подобное, и, кажется, совсем недавно…
Ах да – в Килиддоне, на галерее, вечером.
– Приступайте, – коротко скомандовал Сохт.
И началось…
Мама не сопротивлялась, когда её схватили грязными руками в охапку, поставили босыми узкими ступнями в железные «сапоги» (ноги потонули в них до середины голени), привязали за растёртые в кровь запястья к перекладине. Невзирая ни на что, сохраняла она спокойствие и взирала на возящихся с ней мужланов воистину по-королевски, а на главного своего мучителя – с презрением, от которого любой честный человек заживо зарылся бы под землю.
Увы, Красный год – время тех, у кого чести нет.
Один из палачей навалился на рычаг, потянул вниз, и отвратительный скрежет сжимающихся вокруг тонких аристократических ножек «сапог» пронёсся по камере, заглушив мамин первый судорожный вздох. Я видел боль в родных глазах, видел, как дёрнулись потрескавшиеся губы, как напряжённая волна пробежала по материному стану и плечам. Рванулся к ней, но вновь наткнулся на бесплотную руку невероятной силы – она ударила в грудь, сомкнула пальцы на горле. А в следующее мгновение подскочили тюремщики, чтобы завершить начатое незримым надзирателем; один из них сшиб меня на пол, поставил на колени, надавил на загривок, заставляя уткнуться взглядом в пол.
– Полегче! – выкрикнул наместник. – Он должен это видеть.
Рычаг опустился ниже. Потом ещё ниже… Мама выгнулась, как от внезапного удара кнутом, закусила губу. Скольких усилий стоило ей сдержать рвущийся из груди мучительный стон? Не сдаться, не закричать от боли? Я смотрел на неё, и всё казалось, что это моя плоть сминается в кровавую кашу, что это мои кости превращаются в крошево, что это я…
Невидимая рука вторглась в череп, вонзила когти в мозг и разорвала мысль, как ветхое полотно.
«Романтические глупости, – ещё одна фраза вынырнула из глубин неосознанного на поверхность сознания. – Человек не может так чувствовать чужую боль».
Мама уронила голову на грудь и безвольно повисла на руках – ноги уже не держали её. Палач снова навалился на рычаг. Короткий, едва слышный, но напоённый непереносимой мукой стон сорвался с искусанных губ…
– Мама! Мама! Изверги, я убью вас!
Кажется, я всё-таки заплакал – горькими слезами бессилия – потому что нет, не тюремщики держали меня, не пуская к ней. Тогда, измученный переживаниями и пыткой, я чувствовал в себе силу сбросить с себя их привыкшие к грубой работе руки. Но то, что безраздельно властвует внутри каждого колптинца всю его жизнь, никак не желало отступать без боя – и даже яд Скорпиона не ослабил Его.
Голос Высшего Разума. Я наконец-то его узнал.
«Одна жизнь никогда не равна тысяче, – повторил этот голос. – Ты сам не хотел предавать, чтобы в очередной раз не проявилось проклятие. Так что же терзает тебя теперь, если всё так просто?»
Она – моя мать.
«А что значит «мать»? Лишь то, что ты имеешь к ней особое чувство. Но всякое чувство – порок, ибо оно п
|
| |
| |
| Maniaka | Дата: Суббота, 22.08.2015, 10:03 | Сообщение # 75 |
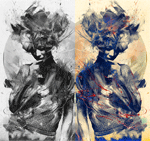 Лазуритовое перо
Группа: Авторы
Сообщений: 771
| Леночка, привет. Жаль Сиге. Перед страшным выбором поставила его судьба. И лично я не осуждаю его, за попытку спасти мать от истязаний. Понятно, что цена высока, но...
Надеюсь, автор что-нибудь придумает и вовремя придет на помощь целому городу. 
|
| |
| |